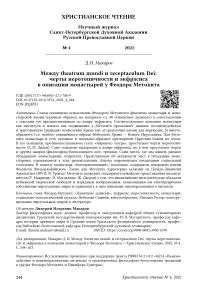Между theatrum mundi и receptaculum dei: черты иеротопичности и экфрасиса в описании монастырей у Феодора Метохита
Автор: Макаров Дмитрий Игоревич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4 (103), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена осмыслению Феодором Метохитом феномена монастыря и монастырской жизни (главным образом, на материале гл. 40 «Памятных записок») в сопоставлении с текстами его предшественников по жанру экфрасиса. Соответствующее описание монастыря как института и монаха как подвижника у Метохита продолжает давнюю позднеиудейскую и христианскую традицию осмысления Храма как: а) средоточия жизни для верующих; б) вместообразного (т.е. особого освящённого образа) Небесного Храма - Нового Иерусалима. Для Метохита монастырь и есть духовное и наглядно-образное претворение Царствия Божия на земле. В его описании, противопоставляемом суете «мирового театра», проступают черты иеротопичности (А. М. Лидов). Само описание выдержано в жанре экфрасиса, но в нем проступают черты и других жанров (философско-богословского эссе, треноса). Сами места, где мы живем, раньше обладавшие монастырями, осиротели. Представление об активности мест в обладании монастырями, отразившееся в этих размышлениях, близко современным тенденциям социальной топологии. В эпитете монастыря «богоприемлющий», возможно, содержится анаграмма имени Феолипта Филадельфийского. Также для Метохита характерны аллюзии на Псевдо-Дионисия Ареопагита (DN II, 9). Трактат Метохита позволяет поддержать новейшие представления византинистов (Р. Макридис, П. Магдалино, Ж. Дагрон) о том, что византийские интеллектуалы обладали небывалой творческой свободой и изрядным воображением, позволявшим им конструировать собственные виртуальные миры и привлекать к ним внимание заинтересованного читателя.
Феодор метохит, памятные записки, экфрасис, иеротопичность, монастыри, социально-топологический подход, небесная скиния, вместообразное, михаил ритор, конструирование виртуальных миров в литературе
Короткий адрес: https://sciup.org/140296136
IDR: 140296136 | УДК: 1(091)"13"+94(495)+271-788-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_4_244
Текст научной статьи Между theatrum mundi и receptaculum dei: черты иеротопичности и экфрасиса в описании монастырей у Феодора Метохита
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
Funding: The reported study was funded by RFBR, project No. 21-011-44214 “The Interplay and Mutual Attraction of Antique and Medieval Philosophical and Theological Traditions in the Works of Theodore Metochites and Nicephorus Gregoras”.
1. Введение. Постановка проблемы
В специальной серии глав своего основного философско-эстетического и этического труда «Памятные записки» (далее — ПЗ, с указанием номера главы, раздела и параграфа, а также страниц(ы) по критическому изданию) византийский философ Феодор Метохит (ок. 1270–1332) противопоставляет мысли о непостижимости будущего (ПЗ 29.3.1: р. 28.18–19 Hult1) серию плачей о бедствиях, постигших Ромейскую империю в не столь отдаленном прошлом (ПЗ, гл. 37 и сл.: р. 37 ff. Hult). Внимание историка культуры в этой серии привлекает гл. 40 (р. 84–90 Hult) благодаря содержащемуся в ней описанию монастырей и монашеской жизни, не лишенному символической и историко-философской интерпретации.
Монастырь для Метохита — нечто большее, чем вместилище (οἶκος) определенной группы лиц, каковым он, безусловно, является. Еще О. Вульф отмечал почти столетие назад, что здание христианского храма является «чувственно воспринимаемым образом (zum Sinnbilde)» христианского мировоззрения [Wulff, 1929–1930, 539]2. Вместительность Эдесского храма сопоставлялась с вместимостью Вселенной еще в сирийском гимне (середина VI в.) на освящение этого храма (4-я строфа, «Далет»)3. Еще важнее для дальнейшей традиции фрагмент описания Св. Софии, принадлежащий ритору Михаилу Ритору (XII в.):
Но что [значат] все эти [детали] (внешний вид Св. Софии. — Д. М. ) по сравнению с внутренним величием и великолепием того вместообразного небесной Скинии (курсив наш. — Д. М. ), которое возвел человек, но в работе [над которым] ему, несомненно, помогал Бог? [Mango, Parker, 1960, 237.79–82]
Использование литургического термина τὸ ἀντίτυπον отсылает к представлению из Откровения св. Иоанна Богослова о Небесной Скинии (Небесном Граде — Иерусалиме), которая снизойдет на праведников по достижении полноты времен (Откр 3:12; 21:2 и сл.; Ис 52:1; ср. «святилище» (Ис 57:15); и др.). Вместообразным этой Скинии в нашем бренном веке и является всякий христианский храм. Таковы были идейные прототипы, как несомненно известные Метохиту (Библия), так и могшие быть знакомыми ему. Идея, а точнее, образ- парадигма Скинии, или Небесного Иерусалима [Лидов, 2009, особ. с. 153 и сл.], думается, занимала определенное место в его сознании. Противопоставление монастырей — монастыря как такового — как вместилища Божественной Истины и theatrum mundi как «игралища» или «игралищ» (τὰ δράματα), далеких от этой Истины (ПЗ 39.4.2; встречается у Метохита и само понятие θέατρον; см. ниже), выглядит убедительно и весьма рельефно. Оно образует одну из значимых «силовых осей» в интерпретации мироздания Метохитом:
Так есть ли вообще хоть кто-нибудь, кто, памятуя [обо всем этом] и глядя из этой перспективы на [что-либо] иное, допустил бы мысль, что еще можно быть живым и смотреть на все происходящее [здесь] изо дня в день не как на имеющее место как будто бы в неких снах или драматических постановках (δράμασιν), предельно далеких от [истинно] сущего и внеположных тому, что по праву подобает истине (πολὺ πόρρω τῶν ὄντων καὶ τῶν δικαίων τῆς ἀληθείας ἐκτός)? (здесь и далее курсив в цитатах наш. — Д. М.) (ПЗ 39.4.2: р. 82.24–27 Hult).
В этих словах отразился, помимо прочего, один из топосов мировой литературы — «мертвецы оказываются живее живых», мастерски разработанный в начале ХХ в. Гийомом Аполлинером (1880–1918) [ Apollinaire , 2000, 160–175]4. Для самого же Метохита данная неподлинность мирового театра служит поводом для размышлений о непостижимости Промысла:
Время же несет с собой все новые сюжеты (события, δραμάτων), демонстрируя нам (προβάλλεται) всевозможные сцены и [предлагая разного рода] действа / изречения (χρῆσιν)5 — то одни, то другие, [при этом] направляя [все это] то к благому концу, то нет; быть может, по справедливости, а быть может, и нет — однако, [подпадает ли] все это под [действие] логосов Промысла (ἐντὸς τῶν τῆς προνοίας ἅπαντα λόγων)6 и является ли в высшей степени согласным с постановлениями свыше и [вышними] целями (хотя бы нам об этом и было неведомо [ср.: Ис 55:8–9]) — совершенно особый вопрос. И я, сохраняя благоразумие в данном [вопросе], пожалуй, не смог бы выразиться по-иному — так или иначе (ПЗ 28.2.10: р. 16.15–20 Hult).
Интересно в данном случае то, что противопоставление мира как театра и монастыря как вместилища Истины, само по себе архетипическое в христианской культуре, практически в те же годы (20-е гг. XIV в.) встречается не только у антикизирующего гуманиста Метохита, но и у первого духовного наставника св. Григория Паламы — св. Феолипта Филадельфийского (ок. 1250–1326) в Первом Слове о трезвении (I, 12):
И духи лукавства возбуждают в душе нерадивого [инока] воспоминание (μνήμην) о родителях, братьях, сродниках и знакомых, а также о пирах, празднествах, театрах (θεάτρων) и о всех других призраках наслаждения7.
То, о чем св. Феолипт говорит вполне конкретно — как о культурном институте, превращается у Метохита в символ мироздания как такового, в «театр икумены»:
Раньше, говорит он, у нас было все прекраснейшее и сильнейшее, «и, словно во всеобщем театре (ὥσπερ ἐν κοινῷ θεάτρῳ), мы для всего мира были виднее всех остальных [народов], на нас отовсюду взирали с восхищением и во всем нами любовались (θαυμαζόμενοι)…» (ПЗ 38.3.3: р. 74.10–12 Hult)8.
Театр этимологически и означает, как ведомо, «место для видения» (cр. сербско-хорв. pozorište) → «место для восхищения, любования» (именно этот семантический переход мы и наблюдаем у Метохита). Истолковывая «театр» в тексте нашего автора как (изначально) «место восхищения» (мы уже видели, что оно в восприятии автора стало в недавнем прошлом предельно отчужденным от Истины), следует обратить внимание на то, что социально-топологические категории «места», «топоса» играют значительную роль в (скажем так) социальной феноменологии Феодора9. Благодаря категориям социальной топологии плачевное и мизерабельное настоящее противопоставляется нашим писателем идеализируемому прошлому:
…и настолько мы сейчас совершаем постыднейшее, и совершаем бесчестно, насколько само наше место (ὁ τόπος) в максимальной степени возвышает нас перед всеми… (ПЗ 38.3.4: р. 74.12–14 Hult).
Контраст места — былого «театра икумены» — и жалких, недостойных действий населяющих его лиц становится еще более заостренным и пластически-наглядным через противопоставление мирских локусов — монастырю (взятому как нагляднопластическое воплощение онтологического, этического и эстетического идеала). Монастырь, кроме того, рассматривается автором как средоточие особого типа социальности . Как отмечает С. А. Азаренко, «бытие-в-коммуникации… является определяющим процессом в развитии тех или иных социальных и культурных форм в истории мировых сообществ» [Азаренко, 2016, 416]10.
В своей апологии монашества Метохит, по сути, отражает топологическое понимание социального и духовно-культурного бытия людей: «С топологической точки зрения быть — это значит со-быть с другими в различении и разграничении, быть в сообщении с ними, достигая взаимопонимания и совершая собирание вместе, воспроизводясь в качестве сообщества (в дружбе и братстве) в определенном времени и пространстве (которое для Метохита ушло в прошлое. — Д. М. ). Взаимодействие людей порождает время и пространство их бытия. Время-пространство — это обживаемое и порождаемое во взаимодействии людей место» [Азаренко, Келлер, 2021, 82]. Применительно к монастырю мы бы добавили: обживаемое и обоживаемое, наполняемое энергией святости Божией, стяжаемой праведными монахами.
То место, которое является вместообразным грядущего трансцендентного Небесного Иерусалима, выступает идеальной средой для сообщества (соборности) спасающихся в нем монахов, в которой освящаются и пространство, и люди, и время. Метохита можно записать в число предшественников современной феноменологии и топологии соборности как сакрального ядра социальности.
Монастырь выступает у Феодора как средство приближения к деятельному познанию Истины, как выход из этого «театра теней» и приближение (хотя бы и отчасти метафорическое) к Божественному Свету. С целью более полного раскрытия как феноменологии жизни в монастыре, так и сущности монастырей Метохит de facto (хотя и не de jure, так сказать) обращается к жанру экфрасиса, или описания монастырского здания как такового, а также совершаемых внутри него культовых действий. Соответствующее описание монастыря, монахов и роли как того, так и других в византийской культуре еще не столь отдаленного прошлого обладает явно зримыми чертами иеротопичности, т. е. частично раскрывает то, как создаются и функционируют в культуре сакральные пространства. Черты создаваемого им «кунстштюка»-экфрасиса Метохит умело вплетает в многогранную ткань повествования, не переставая удивлять и поражать читателя богатством своих литературных ликов, амплуа и углов самопретворения. В этом он выступает как предтеча литературы и эстетической мысли не только Ренессанса или барокко, но и, пожалуй, отдельных стилевых черт символизма и модернизма.
Не простирая наш анализ столь далеко, сосредоточимся на чертах экфрастич-ности и иеротопичности в ПЗ (особенно в гл. 40) и на связях метохитовских идей и используемых автором приемов с его более или менее достоверно реконструируемыми образцами. Это важно для уяснения всей меры полноты того синтеза, который осуществляла в лице Феодора более антикизирующая ветвь византийской философии, художественно-эстетической и общественной мысли. Соответствующая роль Метохита в современных исследованиях еще не только не раскрыта до конца, но даже и вопрос о ней только начинает ставиться11.
Монастырь у Метохита оказывается многозначной, т. е. семантически поливалентной топологемой , иначе говоря, «пространственностью (топосом), которая собирается (легейн [λέγειν]) во время взаимодействия людей» [Азаренко, Келлер, 2021, 82]. Поскольку человек как социально-культурное и духовное существо бытийству-ет «в некой топологеме, включающей в себя понятие темпоральности» [Азаренко, Келлер, 2021, 83]12, в нашем случае — в монастыре, постольку представляется возможным сказать, что монастырь у Феодора оказывается топологемой ушедшего монашества, монашества как тени былого.
Понятие «топологема», на наш взгляд, оказывается близко предложенному А. М. Лидовым концепту «образа-парадигмы», т. е. некоего явления, объединяющего в себе образность и концептуальность, чувственно-конкретное и обобщенноуниверсальное. Именно такого рода «танец понятий» (читай — образов-парадигм) изобразил, к примеру, Поль Валери (1871–1945) в своем эссе «Душа и танец» (1921; см. о нем далее) [Валери: Душа и танец, 2021, 392–416].
Одна из точек пересечения социально-т опологического и иеротопического подходов — предложенное сторонниками последнего понятие «атмосферы»: «Атмосфера — это конденсированная в пространстве эманация выразительности вещей» [Охо-цимский, 2019, 34].
Действительно, все составляющие пространственной иконы монастыря у Метохита гипервыразительны , являют собой и гиперобобщение, и поток конкретностей, конкретных деталей, преодолевая дихотомию «общего — частного». Эту иеротопическую атмосферу монастыря Феодор передает в немногих словах и сжатых фразах, прибегая к приемам столь хорошо известного византийской литературе жанра, как экфрасис. Именно поэтому мы считаем возможным говорить о чертах экфрастичности в его творчестве (которое будет нами рассмотрено на примере «Памятных записок»).
Как отмечала в своей проницательной статье Рут Уэбб, «раскрытие визуально-сти посредством слова» [Webb, 1999, 59] — исключительно трудная задача, известная всякому экфрасиасту. Но Метохит и не стремится к раскрытию чистой визуальности. Его задача — намного более комплексная, включающая в себя и панорамность, и временность (показ монастыря как акме ушедшего периода процветания Ромейской империи, который для автора довольно явственно сближается по значению с Золотым веком). В каком-то смысле подобную задачу решал в ХХ в. уже упомянутый Поль
Валери, чей «Взгляд на море» (1930) являет собой яркий образец жанра экфрасиса в современной литературе. Особенно важен здесь для сравнения со «всеобщим театром» Феодора образ-парадигма Морского театра [Валери: Взгляд на море, 2021, 391]. Он привлекает именно своей визуальностью, тогда как в современных филологических и культурологических штудиях, напротив, встречаются понятия «театр памяти Канона (литературных памятников. — Д. М. )», «мировой театр Гёте», «театр ума» (у Гёте и Ибсена) [Bloom, 1994, 39, 209, 221, 355].
Возвращаясь к Византии, отметим, что уже у Павла Силенциария (середина VI в.) Св. София — не подражание природе; это триумф над природой [Macrides, Magdalino, 1988, 57]. Эта идея важна для осмысления более или менее имплицитной антитезы «хаотичный мировой театр — прекрасный космос церквей и монастырей» в «Памятных записках». Еще раз подчеркнем, что мировой театр с его неподлинностью и фальшью, а также страданиями и бедствиями играющих в нем людей противопоставляется Метохитом монастырю как топосу Истины.
Несомненно, что Великий логофет был сведущ в античных теориях театра, и прежде всего — в цицероновской (как в переводе, так и в ее позднеантичных пересказах). Согласно Цицерону ( De orat . 3.214), histriones — лишь подражатели истины, в отличие от oratores, которые суть ее вершители (actores). Квинтилиан подчеркивал, что оратор не должен выглядеть как актер (Inst. 1.8.3; 1.11.1–3; 6.3.29; 6.3.47)13. Заклеймить кого-либо как актера было мощным средством инвективы [Bell, 1994, 76]. Ясно, что Метохит ощущал себя преемником славной римской традиции (некоторая степень знакомства с ней вероятна и для Феолипта Филадельфийского).
В дальнейшем мы попытаемся вкратце доказать следующие положения:
• гл. 40 ПЗ обладает ярко выраженными чертами экфрастичности в описании монастырей, т. е. представляет собой, по сути, экфрасис монастыря как такового;
• в описании бедствий, связанных с удалением монастырей от мест(а) своего проживания, Метохит так же, как и в основном (экфрастическом) описании, следует социально- топологическому подходу;
• само это описание calamitates прокладывает пути для последующей (не только XIV, но и XV в.) церковно-риторической традиции, что мы кратко отметим на примере речей Иосифа Вриенния (ок. 1350–1431/1432);
• наконец, среди богатства аллюзий, к которым прибегает автор, могут встречаться намеки на известные положения Псевдо-Дионисия Ареопагита (DN II, 9) и даже, возможно, анаграмма имени св. Феолипта Филадельфийского, бывшего современником Метохита, духовником дочери его главного идейного оппонента (Ирины-Евлогии Хумнены) и много лет проведшего в столице. О взаимоотношениях Метохита и Феолипта нам, как кажется, не известно чего-либо определенного; подобное наблюдение обладает уже поэтому некоей интригующей притягательностью14.
2. Дескрипция монастыря как экфрасис:
Подобного рода переплетение синхронного и диахронического анализа призвано обеспечить дополнительную верификацию выводам настоящего исследования.
проблемы и перспективы (ПЗ, гл. 40, и контекст)
-
40 глава ПЗ посвящена монахам, «…с которыми я наисладчайшим образом (ὡς ἥδιστα)15 прожил в течение очень долгого времени (χρόνιος ξυνεβίωσα)…» (ПЗ 40.4.8: р. 90.22 Hult).
В близком значении наречие χρονίως употребляется в памятниках не только светской литературы, но и духовной, например в Анакреонтическом гимне Святой и Богоначальной Троице Митрофана Смирнского (IX в.): «На всякий час спаси всех Тебя любящих (περίσωζε χρονίως τούς σε φιλοῦντας)» [Mercati, 1929–1930, 56.6; 59.110]16.
Иначе говоря, Феодор прибегает к гиперболе — он чуть ли не всю жизнь прожил с монахами, тем самым обозначая важность для себя избранной темы. Этим торжественным заявлением он привлекает внимание слушательской и читательской аудитории к важности содержащегося в данной главе описания и вытекающих из него выводов. Присмотримся же к тому и другому.
Экфрасис монастыря переплетается у Метохита с энкомием монашеской жизни как таковой, который и открывает 40-ю главу «Еще одна серия плачей о том же (об упадке Ромейской империи. — Д. М. ), а также о том, что и дела монашеские здесь были в лучшем состоянии, чем где бы то ни было»: монашеские деяния (или свершения (τὰ κατὰ τοὺς μοναχούς… πράγματα), — «освящение и плодоношение Владыке и всех Виновнику — Богу, истинный цвет всей жизни… вершина естества (ἀκρότης τῆς φύσεως)» (ПЗ 40.1.1–2: р. 84.5–8 Hult). На греческих землях при ромейском господстве монашество всячески господствовало, цвело и процветало — с самого начала и до наших дней (ПЗ 40.1.3–4: р. 84.11–15 Hult).
Действительно, говоря об истоках византийского исихазма, можно упомянуть, что к VIII в. (или, самое позднее, к Х в.) в Византии термин «исихастирион» был достаточно традиционен и обозначал небольшой, уединенный монастырь. Когда Продолжатель Феофана (2-я пол. Х в.) и — вслед за ним — Иоанн Скилица (2-я пол. XI в.) начинают рассказ об иконоборчестве Льва III Исавра (717–741), они упоминают о разорении императором монастырей и исихастириев: «соделал многолюдными17 прославленные монастыри и исихастирии…»18
Противопоставление по признаку «безлюдный — многолюдный» лежит в основе данного фрагмента текста. Очевидно, что исихастирии представляли собой немноголюдные обители на несколько монахов, надо полагать, группировавшихся вокруг старца. В целом же правы исследователи, подчеркивающие значение монахов — носителей «трансцендентной святости» (выражение С. С. Аверинцева) — как одного из становых хребтов византийского мира (см.: [Аверинцев, 1976, 20, 22, 34–42])19.
C подобного рода историческими нарративами, накладывавшимися на осмысление собственного опыта, Метохит, надо полагать, был знаком. Сопоставление славного прошлого монахов с печальным настоящим все же позволяет ему сделать вывод о том, что в империи ромеев монашеские дела процветают в его эпоху так же, как и в древности (вывод, противоречащий собственным рассуждениям; см. далее), — и процветают так, как более нигде в мире (ПЗ 40.1.5: р. 84.19–22 Hult). Хотя монашеских сообществ (μοναστῶν συστήματα) много по всей земле, настолько, что они легко могли бы заселить целые «народы и страны» (ἔθνους καὶ χώρας) вместо всех прочих жителей, не будучи сопричисляемыми к разряду собственно жителей (οἰκητόρων) (ПЗ 40.2.1: р. 84.24–86.1 Hult).
Последние слова показывают, что Феодор четко осознавал парадокс монашества: будучи частью множества «людей» по естеству, «человеков», монах по благодати перестает быть частью только этого множества, начинает быть частью множества обоживаемых (спасаемых) людей, т. е. чем-то большим, чем простая наличность в нас души, тела и способностей (а также взглядов, интересов и т. п.). И в этом плане он мыслит в унисон с монашескими авторами; напомним лишь два примера. В начальных строках Третьего гимна Божественной любви св. Симеона Нового Богослова (ок. 949–1022), содержащего определение монаха, читаем:
Монах есть тот, кто миру непричастен
И говорит всегда с одним лишь Богом…20
Вспомним и уже приводившийся нами Анакреонтический гимн Митрофана Смирнского, где автор повествует о себе:
Настоящим чужд всецело,
Жизнь иную прозревая (προδέρκων) [Mercati, 1929–1930, 58.57–58].
Оба текста настолько архетипичны, что не нуждаются в дополнительном комментарии (можно только отметить изящную антикизирующую лексику Митрофана, выдающую — в отличие от Симеона — его изрядную риторическую образованность).
Пока что речь у Феодора шла обобщенно об общежительном монашестве. Но наш автор, разумеется, не оставляет без внимания и отшельников. Таковые тоже многочисленны: немало в империи ромеев и тех, «кто берет на себя вот это возвышенное попечение (τὴν μεγαλόφρονα ταύτην σπουδὴν), живя, так сказать, вне жизни вообще — лишь для Бога и для себя (Θεῷ μόνῳ καὶ ἑαυτοῖς) и, хотя пребывают еще в этой настоящей жизни, [жительствуют на самом деле] на небесах, высоко над землей» (ПЗ 40.2.2: р. 86.1–4 Hult; ср. ПЗ 40.4.2: р. 90.4–5 Hult).
Таковые-то монахи и не участвуют ни в каком театре, стремясь к Истине Самой по Себе, т. е. к Богу. И если монахам-отшельникам и исихастам по понятным причинам воздается лишь энкомий (см. следующую цитату), то насельникам общежительных монастырей посвящается и экфрасис. Функциональное подразделение обоих жанров торжественной риторики в данной главе «Памятных записок» достаточно очевидно.
По всей Ромейской империи, констатирует Метохит, много «монашеских обителей (μοναστῶν φροντιστήρια)» (ПЗ 40.2.8: р. 86.20–22 Hult). В них обитают монахи, «воздающие поклонение Богу и прибегающие к Нему в пустыни (ἐπ̉ ἐρημίας), бегущие от этой жизни и от всей вообще материи; те, кто возлюбил Бога (ἐραστὰς Θεοῦ) прежде всех и за всех; те, кто имеет непреложное произволение (ἄτρεπτον πρόθεσιν) со всей устремленностью (κατοχῇ) души давать себя поглощать (ἐνασχολεῖσθαι) Ему одному, [Ему же одному] внимая (προσέχειν). Этих наилучших обитателей земли приютили горы, ущелья, пещеры и расселины в скалах, и все это они наиприятнейшим для себя образом (ἥδιστα)21 использовали для проживания[, во время которого предавались] общению с Богом (τῆς θείας κοινωνίας)» (ПЗ 40.2.3–4: р. 86.5–11 Hult).
Общение с Богом есть молитва22. Не вдаваясь в известные определения Евагрия Понтийского и отцов «Добротолюбия», отметим то, что могло представлять интерес как раз для Метохита: уже у неоплатоников — в частности, у Ямвлиха (De Mysteriis V.26.237.6–240.14) — встречаем учение о молитве богам и сумму определений молитвы, главное в которых заключается в понимании молитвы как средства коммуникации с богами. Это общение проходит, по Ямвлиху, три этапа: вводный; соединительный , «сочетающий [с богами] в общении единомыслия (κοινωνίας ὁμονοητικῆς συνδετικός)»; и «несказанное единство (ἄρρητος ἕνωσις)»23.
Остальные понятия, использованные в данном отрывке — «внимание», «непреложный» (ср. Халкидонский догмат) и т. п., — настолько архетипичны, что на них можно особо не останавливаться. Впрочем, когда размышляешь о совмещении в гл. 40 ПЗ христианских и светских, распространявшихся в интеллектуальной среде описаний монашества, приходишь к выводу, что христианский язык и христианская образность все же преобладают. Монахи обитают всюду, в горах, в городах и деревнях, и всюду несут свой образ жизни, увещевание в добродетели и свет своих дел:
Впрочем, и для общежительных [монахов] (τοὺς μετ̉ ἀλλήλων κοινωνικοὺς) — тех, кто отстаивает этот образ жизни и деятельности (τὴν… ἔνστασιν καὶ πολιτείαν), лучший среди доступных человеку, живущих объединениями (κατὰ συντάγματα) и священными общинами, благоговейно променяв несообщительность с миром24 (τὸ ἀκοινώνητον τοῦ κόσμου) на общение между собой, явились пристанищем не только те же самые пустыни и горные вершины (которые их, разумеется, вмещали и — подчеркну — располагали всем необходимым для [удовлетворения] неизбывных телесных нужд); [нет,] но существуют также и [такие] поселения, где они находятся в [непосредственной] близости от других людей — [поселения,] которые вмещают их самих и их всечестные и священные обиталища (οἴκους), по всей видимости, в качестве напоминания о добродетели, а тем самым — и увещевания к Благу, попечению (σπουδὴν)25 о целомудренной жизни и к жительству, угодному Богу (Θεῷ φίλην ἀγωγὴν); а заодно и [как] ближайшие пристанища [благочестия] для тех, кто [барахтается] в волнах житейского моря (ПЗ 40.2.5–7: р. 86.11–20 Hult).
Для осмысления нашей темы важно сопоставить наименование монастырей обиталищами у Метохита с описанием храма, в котором служил отец св. Григория Богослова, в XVIII проповеди Великого каппадокийца. Это был храм, «со всех сторон озарявший (περιαυγάζοντα) очи обильными источниками света, будучи, поистине, обиталищем (οἰκητήριον) света (курсив наш. — Д. М. )» ( S. Gregorii Theologi Oratio XVIII, 39 // PG. 35. 1037AB. (13))26.
Восприятие церковного здания как «обиталища Света» восходит к древнехристианской традиции восприятия культового здания [Wulff, 1929–1930, 535]. Говоря более предметно, в такого рода древнейших экфрасисах ощутимо влияние александрийской традиции истолкования иудейской Скинии [Macrides, Magdalino, 1988, 51]27. Мотив храма как обители / обиталища несложно вывести из ряда (видимо, практически изо всех) апокрифов, как позднеиудейских, так и древнехристианских; к примеру, в 4-й книге Варуха, гл. 1–5, мы встречаем мысль о том, что само существование людей за пределами храма «оказывается пограничным (liminal)» [Allison, 2019, 30, 31]: только присутствие Божие скрепляет жизнь.
Наконец, в XII в. Михаил Ритор (Михаил Солунский) в первой же строке своего экфрасиса Св. Софии («Экфрасис святейшей Великой церкви Божией, произнесенный во время обновления…») употребляет слово οἶκος, называя Св. Софию «сим домом (οἶκος), подлинно обновляемым…»28
У Метохита же, как видим, происходит частичный перенос семантики «обиталища» с храма (пусть и при монастыре) на монастырь как таковой, но в дальнейшем развитии повествования он возвращается к более ранней традиции истолкования как обиталища Божия именно храма. Поэтому в целом представляется возможным говорить не о переносе семантики слова, но о ее расширении.
Метохит не жалеет красок, чтобы описать великолепие храма как дома Божия: «О те, [что были прежде,]29 сияния (λαμπρότητες) (ср.: Мф. 17:2) божественных обителей (οἴκων) и украшения (κόσμοι)30 всяческого благочестия (σεβασμοῦ), достойные всякого благоговения (αἰδοῦς) благодаря одному лишь своему виду, о благолюбие (φιλοκαλίαι) божественных икон31, о блеск (ἀστραπαὶ) священных сокровищ, всечест-ное струение [света] (αἴγλη)32 и всесвященнейшие красоты (πάναγνα κάλλη)!» (ПЗ 40.3.2: р. 88.3–6 Hult; ср. о книгах: ПЗ 40. 3.3: р. 88.6 Hult).
Иеротопичность этого описания опирается на всеобъемлющую эстетику визуаль-ности , типичную для греко-византийской культуры33. Для уяснения данной сферы важны рассуждения Ж. Дагрона о важности проблемы репрезентации реальности в искусстве и литературе, включая иконопись (мы вернемся к этому в конце статьи), а также о «повелительном и императивном характере зрительных впечатлений», зримости сущего как таковой для каждого из людей — в чем отдавала себе отчет позднеантичная и средневековая оптика (и эстетика)34. С позиции же теории иерото-пии, Феодор подчеркивает, что пространство монастыря и совершаемое в нем «ико-нично… в обобщенном смысле»; здесь всюду воплощается «принцип иконичности» [Охоцимский, 2019, 25]35. Поскольку «иеротопию можно было бы определить как вид искусства, в котором создаются пространственные иконы» [Охоцимский, 2019, 31], постольку описание Метохита (с центральным для него понятием иконы) оказывается отчетливо иеротопическим. Действительно, насколько хватает круго -зора, храм сияет:
…о все [элементы храма], что есть сил состязающиеся друг с другом [в великолепии] — высшие со срединными и низшими, и все со всеми [вообще], так что те, что [расположены] на полу, что есть мочи отражают блеск (ἀντιστίλβοντ̉) вышних и тех, что их окружают, едва ли не внушая [благоговейный] страх ходить по ним!36 (ПЗ 40.3.3: р. 88.7–10 Hult).
Кстати, связь семантических полей блеска и страха для патристики не случайна; по крайней мере, в трактате Евагрия Понтийского «О помыслах» (390-е гг., вряд ли известном Метохиту) встречаем такой совет:
Пусть же он (монах-безмолвник. — Д. М. ) в первую очередь заточит свой меч до блеска (στιλβωσάτω τὴν μάχαιραν) постами и бдениями! [Évagre le Pontique, 1998, 272.22–23].
Духовный меч, о котором ведет речь Евагрий, призван устрашить лукавых духов — и в этом смысле противоположен тому благоговейному страху, о котором ведет речь Феодор. Однако сама тематика монашеского делания, блеска как характеристики того локуса и той среды, где живут и трудятся монахи37, все же позволяет совместно рассмотреть оба этих описания.
В гл. 40 ПЗ, как и в греко-византийской риторической теории в целом, выделяются «более общие, умопостигаемые характеристики» [Webb, 1999, 64] объекта — храмы и их убранство как наглядно-образное предварение Царствия Божия, в духе теории о. П. Флоренского об иконостасе. В эту среду ( атмосферу ) распространения святости, в жилище (или обиталище) Божие вовлечены все — и пространство, и время, и люди, органическое единство которых, формируемое в мысли Метохита, способствует возникновению в этой мысли (и в тексте) «единого „образа-концепта“ [храма], сочетающего рациональные и образно-чувственные аспекты» [Охоцимский, 2019, 34].
Приведем еще пару цитат, дающих почувствовать эту синкретичность и иеро-топичность (являвшуюся таковой, по сути, и для самого автора) «храмового действа как синтеза искусств». Архетипические для христианской и философской мысли понятия сливаются у Феодора в продолжении экфрасиса:
О порядок всяческого священнодействия (ἱεροτελεστίας)38, о предписания и повеления, доводящие до совершенства (τύποι καὶ διατάγματα τελεσφόρα) всякую добродетель, всякую набожность (σεμνότητος), всякую соразмерность (εὐαρμοστίας) и всякое богозиждительное39 расположение [души] (θεουργοῦ διαθέσεως) и зиждущие Божественное осенение вкупе с оным невыразимым раздольем40 (θειασμοῦ δημιουργὰ μετὰ ῥᾳστώνης οἵας ἀρρήτου), спокойствием и особой сладостностью (γλυκυθυμίας) для душ, как и [вытекающее] отсюда боговосприемлющее смешение (θεολήπτου κράσεως)41 для всех, участвующих [в этом], для всех видящих и для всех читающих! (ПЗ 40.3.4: р. 88.10–14 Hult).
Слово «боговосприемлющее» (θεολήπτου) в этой изысканной тираде — едва ли не намек- анаграмма на имя св. Феолипта Филадельфийского (Θεόληπτος ὁ Φιλαδελφείας). Нам кажется, что сам текст Метохита, таким образом, провоцирует нас на проводимое нами сопоставление мыслей его автора с умозрениями св. Фео-липта. Тот был духовником дочери главного оппонента Феодора (Никифора Хумна) и, надо полагать, был известен Метохиту хотя бы в этом качестве, не говоря уже о его роли как духовника (раз Метохит увлекался монашеством, эта роль была ему, скорее всего, известна). Аналогичным образом И. Перцель находит в самом имени-псевдониме «Псевдо-Дионисий (Διονύσιος) Ареопагит» аллюзию на имя Агапита, епископа острова (νησίου) Родос (ок. 457–474) — соответствие, в том числе и хронологическое, почти полное [Perczel, 2020, 278, 279]. При этом И. Перцель также прибегает лишь к имманентному анализу текста, задавая тем самым стандарты для аналогичных исследований в смежных областях.
Ясно, что монастырь — одно из идеальных пространств византийского общества в восприятии интеллектуала. Описывая церковные гимны и процессии днем и ночью на основании аутопсии (по крайней мере, частичной), Метохит вновь переходит на ликование — можно сказать, в антифонной манере отвечает гимном и благодарением (теперь уже монахам) на гимны и благодарения , возносимые монахами Богу:
…о молчаливое ответное благодарение (τῆς ἀνθομολογήσεως) Владыке в спокойствии помыслов (ἐν γαλήνῃ τῶν λογισμῶν), о велегласное словословие и созвучное ликование (βακχείας εὐήχου), о слаженность (τὸ σύντονον) вкупе с возвышенностью и великою красотой! О изобилующие исхождения [ света ] (πρόοδοι)42, светоизлияния (φωταύγειαι)43 и сияния (λαμπρότητες), о благолепные [примеры] всецелого [само] уничижения (συστολαὶ καθάπαξ εὐσχήμονες) и всяческая умеренность (μετριότης)44, [достигаемая] страхом Божиим и воздающая Владыке всякую честь вкупе со смирением и благоговением (τῷ δυσωπητικῷ)45! (ПЗ 40.3.7–8: р. 88.23–28 Hult).
Сочетание темы Света Божия и исхождений Божиих — характерная отличительная особенность «Небесной иерархии» св. Ареопагита. Присмотримся уже ко второй фразе трактата:
…всякое исхождение движимого Отцом светосвечения (πᾶσα πατροκινήτου φωτοφανείας πρόοδος), благодатно в нас приходящее, вновь как единотворящая сила, возвышая, нас наполняет и обращает к единству и боготворящей простоте Собирателя Отца (ср. Мих 2:12; Ин 17:21)46.
Именно это и происходит во время литургии и прочих церковных служб, которые находятся в центре внимания как свв. Ареопагита и Григория Богослова (создателей текстов-антецедентов, на которые ориентировался Феодор), так и самого Метохита. Указанием на еще одну вероятную аллюзию (причем, по-видимому, сразу на свв. Аре-опагита и Григория Богослова) в тексте гл. 40 ПЗ мы бы и хотели завершить данный подраздел статьи.
Мы уже предполагали аллюзию на DN II, 9 («не только изучая Божественное, но и претерпевая его на опыте [или: на самом деле]»47) в ПЗ 19.3.3; 71.4.2 [Theodore Metochites, 2002, 178.21–22; 222.26–28; Макаров, 2021, 272]. Этот же стих, как нам кажется, лежит и в основе рассказа автора о том, что он сам испытал на опыте колебания судьбы (πεπείραμαι — повествование идет от первого лица: ПЗ 28.3.1: р. 16.21–22 Hult). Этому «готов поверить всякий, кто сам испытал это на опыте (πεπείραται)» (р. 18.7–8 Hult; ср. ПЗ 40.4.6: р. 90.14–16 Hult). Итак, Метохит утверждает универсальность опытного подхода к решению философских проблем. В гипотезу об аллю-зивности подобного рода высказываний заставляет поверить близкое по смыслу и фразеологии выражение св. Григория Богослова — из уже цитированной нами 18-й проповеди: «на опыте изведавшая изобилие даров Божиих (πείρᾳ μαθοῦσα τοῦ Θεοῦ τὸ φιλόδωρον)» [S. Gregorii Theologi Oratio XVIII, 12 // PG. 35. 1000A. (26)]. А кто станет отрицать, что как богословие и философия, так и эфкрасис — опытные формы приобретения и выражения знания и опыта?
Подобное сочетание жанров — экфрасиса, панегирика, богословско-философского рассуждения — привычное явление для византийской литературы. Говоря о поэме Павла Силенциария, посвященной повторному освящению Св. Софии (24 декабря 562 г.), Р. Макридис и П. Магдалино отмечают: «Наконец, взаимопроникновение панегирика и описания достигает полноты благодаря внедрению элементов панегирика в описание как таковое» [Macrides, Magdalino, 1988, 57]48. У Метохита (по крайней мере, по сравнению с Павлом) роль описания минимальна, а удельный вес панегирика выше. Но и это сочетание экфрасиса с панегириком оборачивается треносом; боюсь, что именно последний жанр оказал наибольшее влияние на византийскую литературу последнего столетия перед падением Империи. Мы кратко отметим это обстоятельство путем сопоставления все той же главы ПЗ с выдержками из речей Иосифа Вриенния.
Все эти прекрасные дела и процессии монахов, сетует Феодор, остались в прошлом. Теперь же кто из монахов был изгнан под натиском нечестивых, а кто и взят в плен, но, где бы они ни оказались, они украшают [собою] принявшие их места и приютивших их людей (κοσμοῦσι τοὺς δεξαμένους τόπους τε καὶ ἀνθρώπους), у которых они оказались, да и сами эти [места] — все без исключения — располагают ими49 как средством исцеления (κέρδος)50 [от дурного воздействия] судьбы (τῆς… τύχης), безжалостной к остальным, а точнее — к Ромейской империи (τῷ κοινῷ ̒Ρωμαίων) в целом, как поворотным пунктом или чашей весов (τροπὴν ἢ ῥοπὴν), благородно склоняющейся к наилучшему; [эти места] самым что ни на есть наилучшим образом (βέλτιστ̉ εὖ μάλ̉) [обладают монахами как] столпами (мерилами, ὅρους) [всего] прекрасного51, а их поселениями — как основанием для благородства жизни и благоденствия (εὐδαιμονίας) (ПЗ 40.4.4–5: р. 90.9–14).
Итак, с одной стороны, Римская империя — сумма мест (топосов), в которых люди либо спасаются, либо погибают; те места, где проживают монахи, суть места спасения. С другой же, как видно в выделенных полужирным шрифтом частях текста, сами эти места — сумма мест — также выступают активными квазидеятелями, «располагающими» монахами и побуждающими их действовать на общую пользу — свою, самих мест и других людей. По сути, перед нами предвосхищение идей позднего Хайдеггера («Искусство и пространство») и социальной топологии.
Для Феодора характерна мысль о том, что время-хронос «постоянно сохраняет, как сокровища», остатки прошлого (ПЗ 37.1.6: р. 64.22–23 Hult). Значит, прош лое — не то, что прешло и скрылос ь, как туман, а нечто онтологически пребывающее;
время аккумулирует культурные ценности, а не аннигилирует их (кумулятивная, а не релятивная модель времени). Однако в последние дни внешними (что очевидно, турками) и внутренними врагами «попираются и оскверняются учения и таинства Христовы… Да и внутри у нас то, что связано с практикой благочестия, приходит в упадок (νοσεῖ), нас покинули всякая добродетель и благолепие (κοσμιότης), и даже в то, что видно очами, [многие уже] не верят…» (ПЗ 37.3.2–3: р. 68.4–5. 8–10 Hult; ср. ПЗ 37.3.5: р. 68.16–18 Hult).
Это причиняет неимоверную боль сердцу Феодора (ПЗ 38.1.9: р. 72.10–13 Hult): для него происходящее — «полное разрушение того прекраснейшего, что я видел и испытал в этой жизни (τὴν πανώλειαν ὧν ἐν τῇ ζωῇ καλλίστων εἶδον καὶ πεπείραμαι)…» (ПЗ 40.4.8: р. 90.20–22 Hult; ср., опять же, DN II, 9). Мы живем среди весьма немногочисленных остатков и частей тела Империи, «поскольку лучшие и важнейшие [его] части отсечены [от него]…» (ПЗ 38.3.1: р. 74.4–7 Hult; цит. р. 74.6–7).
И в самом деле, — вопрошает Иосиф Вриенний (ок. 1350–1431/1432) веком спустя, — какой певец сможет воспеть так, как подобает, — в трагической манере — все происходящее с нами? Ведь это, поистине, превосходит [меру] всякого плача… [ Josephi Bryennii Or. III, 1990, 200–221, σ. 203].52
То, о чем Метохит говорит намеками, Вриенний, живший уже на гораздо более поздней стадии завоевания тюрками и исламизации Малой Азии, уже провозглашает эксплицитно:
…я счел, что предпочтительнее слова — молчание (первая часть антиномии коммуникации Метохита! — Д. М. ), и мне бы и еще подобало молчать… потому что мы рассеяны по всем царствам земли и нами правят языки, а мы не правим, и нашу землю у нас на глазах пожирают инородцы, и опустошают, и уже обратили ее в руины, и некому помочь!.. Делами Церкви пренебрегают; все, что связано с царством, — уничтожено ; дальние его части — на осадном положении; пределы сокрушаются, и все сотрясается. Откуда нас гонят агаряне, оттуда же вытесняют и скифы; с запада грабят измаилиты, а с востока выкорчевывают персы (курсив наш. — Д. М. ) [ Josephi Bryennii Or. III, 1990, 201–202].
Перед лицом столь разрушительных событий Метохит находит утешение в обращении к созерцанию славного прошлого, сопряженного с обретением эллинским православным духом небывалых высот духовного развития. И если в более раннем трактате «Об образованности» (ок. 1305) Великий логофет секуляризирует христианское созерцание природы [Polemis , 2021a, 1004], то в 40 гл. ПЗ он, напротив, приближается к раскрытию духовных смыслов монастыря и монашества.
Мало сказать, что Метохит достигает в своем экфрасисе духовных и философских высот; как подчеркивают Р. Макридис и П. Магдалино, «всякий экфрасис следует рассматривать сообразно с его собственными качествами» [Macrides, Magdalino, 1988, 78]. Текст ПЗ предоставляет нам редкий шанс рассмотреть экфрасис не как «единичный бриллиант», а как раз-таки как «жемчужину в оправе» [Macrides, Magdalino, 1988, 81], и эта оправа многожанрова и полистилистична. Ж. Дагрон был прав, утверждая, что большинство византийских экфрасисов находятся на полпути между античной риторической традицией и христианской мистикой созерцания, стремясь интериоризировать образ [Dagron, 2007, 100, 103]. Не так-то просто сказать, какая из четырех составляющих экфрасиса, выделенных Р. Макридис и П. Магдали-но [Macrides, Magdalino, 1988, 81], преобладает у Феодора — пожалуй, исторический (мы бы уточнили — историко-биографический) контекст и контекст обстоятельств, вкупе с описанием. Важнее другое. Р. Макридис, П. Магдалино и Ж. Дагрон одними из первых наметили тот путь, который и нам кажется более перспективным, — путь отхода от идеи искажения действительности в византийской литературе [Mango, 1975] и выдвижение на первый план представления о конструировании некоей новой действительности, виртуального мира, порожденного совместным действием чувств, воображения и интеллекта. Как выясняется, в мире Метохита немалую роль играют аллюзии на Псевдо-Дионисия Ареопагита (и, возможно, анаграммы), а также стихия визуальности и блеска в ее различных преломлениях и социально-топологический подход. Мир, понимаемый нами в такой модальности (вслед за самими византийцами), может рассматриваться как «полицентричный универсум равноправных мыслящих людей» [Драгалина-Чёрная, 2015, 165]. Такое понимание близко метохитовскому.
Список литературы Между theatrum mundi и receptaculum dei: черты иеротопичности и экфрасиса в описании монастырей у Феодора Метохита
- Аверинцев (1976) — Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения / Отв. ред. В.А. Карпушин. М.: Наука, 1976. С. 17-64.
- Азаренко (2016) — Азаренко С.А. Топологическое философствование и социальная коммуникация // Известия Саратовского государственного университета. Новая серия: Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16. № 4. С. 412-417.
- Азаренко, Келлер (2021) — Теоретико-методологические аспекты социальной топологии ремесла // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2021. № 5. С. 81-90.
- Азаренко, Келлер (2022) — Азаренко С.А., Келлер А.В. Своеобразие Уральского старопромышленного региона: социально-топологический аспект // Quaestio Rossica. Екатеринбург, 2022. Т. 10, № 1. С. 335-352.
- Алексеенко (2007) — Алексеенко Н. А. Печать Митрофана Смирнского из Херсона: ссыльный митрополит в Таврике // Sacrum et Profanum. Т. III: Небесные патроны и земные служители культа / Ред.-сост. Н.А. Алексеенко и др. Севастополь: Максим, 2007. С. 11-16.
- Беневич (2013) — Беневич Г.И. Краткая история промысла от Платона до Максима Исповедника. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2013. (XцарaYÖog ФЛокаМад; Византийская философия, 11). С. 77-88.
- Бирюков (в печати) — Бирюков Д. С. Смешение. Бесконечность. Природа. Космос: Очерки византийской натурфилософии в философском и теологическом контексте. СПб.: Дмитрий Буланин (в печати) (Paradeigmata byzantina).
- Валери: Взгляд на море (2021) — Валери П. Взгляд на море // Валери П. Эстетическая бесконечность / Пер. с фр. М. Таймановой. М.: Колибри, 2021. С. 384-392.
- Валери: Душа и танец (2021) — Валери П. Душа и танец // Валери П. Эстетическая бесконечность / Пер. с фр. М. Таймановой. М.: Колибри, 2021. С. 392-416.
- Великий Патерик (2005) — Великий Патерик, или Великое собрание изречений старцев: Систематическая коллекция / Пер. с древнегреч. А. В. Маркова, Д. А. Поспелова. М.: Издание пустыни Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря Новая Фиваида, 2005. T. I. (Bibliotheca hesychastica, 1).
- Дионисий Ареопагит (2002) — Дионисий Ареопагит. Сочинения; Максим Исповедник. Толкования / Пер. с древнегреч. Г. М. Прохорова. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. (Библиотека христианской мысли).
- Драгалина-Чёрная (2015) — Драгалина-Чёрная Е.Г. Неформальные заметки о логической форме. СПб.: Алетейя, 2015.
- Кокто (2021) — Кокто Ж. Дневник незнакомца / Пер. с фр. М. Л. Аннинской. М.: АСТ, 2021. (Эксклюзивная классика).
- Лидов (2009) — Лидов А. М. Святой Лик — Святое Письмо — Святые Врата. Образ-парадигма «благословенного града» в христианской иеротопии // Лидов А.М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009. С. 133-159.
- Макаров (2002) — Макаров Д. И. О значении слова «космос» в гомилиях св. Григория Паламы // Мир Православия. Вып. 4. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. С. 131-140.
- Макаров (2019) — Макаров Д.И. Две заметки о понятии образованности у Феодора Метохита и в средневизантийской святоотеческой традиции // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Волгоград, 2019. Т. 24. № 6. С. 297-304.
- Макаров (2021) — Макаров Д.И. Элементы теории коммуникации в «Памятных записках» Феодора Метохита (гл. 1-26; 71) // АДСВ. 2021. Т. 49. С. 254-276.
- Макаров (2022а) — Макаров Д.И. К осмыслению базовых аксиом модальной логики Феодора Метохита // Международная конференция «Смысл и смыслообразование» (2-4 июня 2022, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 58/60). Абстракты докладов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2022. С. 85-86.
- Макаров (2022б) — Макаров Д.И. О некоторых чертах понимания природы у Фео-дора Метохита и Альберта Великого: к вопросу об элементах схоластики в византийской мысли // ВЕДС. 2022. Т. 1 (37). С. 24-30.
- Охоцимский (2019) — Охоцимский А. Д. Рождение иеротопии из смыслов иконы // Пространство иконы. Иконография и иеротопия. К 60-летию А. М. Лидова / Ред.-сост. М. Баччи, Е. Богданович. М.: Феория, 2019. С. 22-40.
- Сметанин (1990) — Сметанин В. А. Восприятие общественных проблем ортодоксально-православным мыслителем (Иосиф Вриенний) // АДСВ. 1990. Вып. 25: Византия и сопредельный мир. С. 136-150.
- Феодор Метохит (2020) — Феодор Метохит. Слово о нравственных проблемах, или Об образованности / Пер. со среднегреч. и вступ. ст. Д. И. Макарова; коммент. Я. Поле-миса, Д. И. Макарова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. (Paradeigmata byzantina, 1).
- Феолипт Филадельфийский (2018) — Феолипт Филадельфийский, св. Аскетические творения. Послания / Вступ. ст., пер. и коммент. А. И. Сидорова; при участии свящ. А. Прже-горлинского. М.: Сибирская Благозвонница, 2018. С. 192-222.
- Флоренский (1990) — Флоренский П.А., свящ. Столп и утверждение Истины // Флоренский П.А., свящ. Сочинения: в 2 т. М., 1990. (Из истории отечественной философской мысли). Т. I. Ч. 1.
- Фрейберг (1974) — Фрейберг Л.А. Византийская литература IV-X вв. и античные традиции // Византийская литература / Отв. ред. С. С. Аверинцев. М.: Наука, 1974. С. 24-76.
- Фуко (2011) — Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году / Пер. с фр. Н. В. Суслова, А. В. Шестако-ва, В. Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2011.
- Allison (2019) — Allison D. C, Jr. 4 Baruch. Paraleipomena Jeremiou. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2019. (Commentaries on Early Jewish Literature).
- Apollinaire (2000) — Apollinaire G. La maison des morts // Аполлинер Гийом. Мост Мирабо / Пер. с фр. М. Яснова. СПб.: Азбука, 2000.
- Beck (1952) — Beck H.-G. Theodoras Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. München: C. H. Beck, 1952.
- Bell (1994) — Bell A.J.E. Spectacular power in the ancient city. A Dissertation. Stanford University, 1994.
- Bellini (1980) — Bellini E. Teologia e teurgia in Dionigi Areopagita // Vetera Christianorum. 1980. Vol. 17. P. 199-216.
- Biriukov (2022) — Biriukov D. Divine Unions in Byzantine Christianity: The Penetration of Fire into Iron as a Metaphor of Theosis // Conceptualising Divine Unions in the Greek and Near Eastern Worlds / Ed. by E. Pachoumi. Leiden; Boston: Brill, 2022. (Ancient Philosophy & Religion, 7). P. 291-314.
- Bloom (1994) — Bloom H. The Western Canon. The Books and School of the Ages. New York; San Diego; London: Harcourt Brace & Company, 1994.
- Josephi Bryennii Or. III (1990) — Josephi Bryennii. Oratio III. Dicta eodem palatio, durante eadem Bonum Veneris die. = 'Ev тф аитф ХаХпЭад лаХатиа ката тг^ ЁфЕ^д тф тоте ^Ya^nv Параокеиг^... // Тшо^ф ^vo^ou тои Bpvevviov Та ейрпЭ^та. Т. В. "ЕкЗоап Зеитфа. ©EaaoXovixn: 'ЕкЗотькод о1код Вао. PnYonoüXou, 1990 [репринт лейпцигского издания 1768 г.].
- Choricii Gazaei Orationes (1846) — Choricii Gazaei Aôyoç SeûxEpoç elç MapKiavov râÇnÇ éniorconov // Choricii Gazaei Orationes, declamationes, fragmenta. Insunt ineditae orationes duae / Curante Jo. Fr. Boissonade. Parisiis: Apud Dumont, bibliopolam à l'institut, 1846. P. 105-125.
- Dagron (2007) — Dagron G. Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique. 68 illustrations. Paris: Gallimard, 2007.
- Das Register des Patriarchats (1995) — Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 2. Teil. Edition und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren 1337-1350 / Hrsg. von H. Hunger, O. Kresten, E. Kislinger, C. Cupane. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995. (CFHB, vol. XIX/2).
- Dillon (2018) — Dillon J. Prayer and Contemplation in the Neoplatonic and Sufi Traditions // Prayer and Contemplating in Late Antiquity. Religious and Philosophical Interactions / Ed. by E. Pachoumi, M. Edwards. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018. (Studien und Texte zu Antike und Christentum, 113). P. 7-22.
- Évagre le Pontique (1998) — Évagre le Pontique. Sur les pensées, 34 // Évagre le Pontique. Sur les pensées / Éd. du texte grec, intr., trad., notes et index par P. Géhin, C. Guillaumont et A. Guillaumont. Paris: Les Éditions du Cerf, 1998. (SC, 438).
- Gielen, Van Deun (2015) — Gielen E., Van Deun P. The Invocation of the Archangels Michael and Gabriel Attributed to Metrophanes, Metropolitan of Smyrna (BHG 1292) // BZ. 2015. Bd. 108/2. S. 653-671.
- Gregorii Theologi Or. XVIII — S. Gregorii Theologi Or. XVIII. Funebris oratio in patrem, praesente Basilio // PG. 35. 985A-1044A.
- Hult — Theodore Metochites on the Human Condition and the Decline of Rome. Semeioseis gnomikai 27-60. A Critical Ed. with Introd., Trans., Notes and Indexes by K. Hult. Göteborg: Responstryck, 2016. (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, LXX).
- Hussey (1958) — Hussey J.M. Die byzantinische Welt / Übers. aus Engl. von R. Voretzsch. Stuttgart: Kohlhammer, 1958. (Die wissenschaftliche Taschenbuchreihe, 35).
- Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum (1973) — Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / Editio princeps; rec. I. Thurn. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1973. (CFHB. Series Berolinensis, V).
- Kermanidis (2020) — Kermanidis M. Episteme und Ästhetik der Raummodelierung in Literatur und Kunst des Theodoras Metochites. Ein frühpalaiologischer Byzantiner im Bezug zur Frühen Neuzeit. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2020. (Byzantinisches Archiv, 37).
- Kermanidis (2022) — Kermanidis M. Allegorie und Lob der Physik. Das Proömium der Paraphrase des Theodoras Metochites zu naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles // BZ. 2022. Bd. 115/1. S. 143-184.
- Kumaniecki (1932) — Kumaniecki K. Notes critiques sur le texte de Théophane Continué // Byzantion. 1932. Vol. 7/1. P. 235-237.
- Lourié (2018) — Lourié B. A Logical Scheme and Paraconsistent Topological Separation in Byzantium: Inter-Trinitarian Relations according to Hieromonk Hierotheos and Joseph Bryennios // Relations. Ontology and Philosophy of Religion / Ed. by D. Bertini, D. Migliorini. Sesto San Giovanni (Milano): Mimesis International, 2018. (Mimesis International. Philosophy, 24). P. 283-299.
- Makarov (2016) — MakarovD.I. Theology for Rent: Nicholas Mesarites as a Compiler of Andronicus Camaterus // Scrinium. 2016. Vol. 12. P. 291-307.
- Makarov (2019) — Makarov D.I. An Irreproachable Dogmatics? Plotinus, Theodore Metochites and the Sixth Chapter of the Letter On Education // Scrinium. Journal of Patrology and Critical Hagiography. Leiden; Boston: Brill, 2019. Vol. 15. P. 211-217.
- Macrides, Magdalino (1988) — Macrides R, Magdalino P. The architecture of ekphrasis: construction and context of Paul the Silentiary's poem on Hagia Sophia // BMGS. 1988. Vol. 12. P. 47-82.
- Mango (1975) — Mango C. Byzantine Literature as a Distorting Mirror. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- Mango, Parker (1960) — Mango C, Parker J. A Twelfth-Century Description of St. Sophia // DOP. 1960. Vol. 14. P. 233-245.
- Mercati (1929-1930) — Mercati S.G. Inno anacreontico alla SS. Trinità di Metrofane arcivescovo di Smirne // BZ. 1929-1930. Bd. 30. S. 54-60.
- Neirynck, Van Deun (2019) — Neirynck S, Van Deun P. Est-ce qu'on a découvert la profession de foi de Métrophane de Smyrne? // The Literary Legacy of Byzantium. Editions, Translations and Studies in Honour of J. A. Munitiz SJ / Ed. B. Roosen, P. Van Deun. Turnhout: Brepols, 2019. (Byzantios. Studies in Byzantine History and Civilization, 15). P. 321-332.
- Palmer, Rodley (1988) — Palmer A., Rodley L. The Inauguration Anthem of Hagia Sophia in Edessa // BMGS. 1988. Vol. 12. P. 117-167.
- Perczel (2020) — Perczel I. Revisiting the Christian Platonism of Pseudo-Dionysius // Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism. Studies in Honor of Alexander Golitzin / Ed. by A. A. Orlov. Leiden; Boston: Brill, 2020. (Supplements to Vigiliae Christianae, 160). P. 267-307.
- PGL — A Patristic Greek Lexicon / Ed. by G. W. H. Lampe. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Polemis (2021a) — Polemis I. Commentary // Theodore Metochites (1270-1332) on the Beauty of Nature (Excerpts from the Miscellanea) // Sources for Byzantine Art History. Vol. 3. The Visual Culture of Late Byzantium (c. 1081-c. 1350). Pt. 2 / Ed. by F. Spingou. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 1001-1013.
- Polemis (2021b) — Polemis I. [Introduction] // Theodore Metochites (1270-1332) on Constantinople (Excerpts from Byzantios) [Greek text and English translation by I. Polemis] // Sources for Byzantine Art History. Vol. 3. The Visual Culture of Late Byzantium (c. 1081-c. 1350). Pt. 1 / Ed. by F. Spingou. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 894-905.
- Corpus Dionysiacum: De coelesti hierarchia (1991) — Ps.-Dionysii Areopagitae De coelesti hierarchia, I, 1 // Corpus Dionysiacum. Bd. II / Hrsg. von G. Heil, A. M. Ritter. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1991. (Patristische Texte und Studien, 36).
- Corpus Dionysiacum: De divinis nominibus (1990) — Ps.-Dionysii Areopagitae De divinis nominibus, II, 9 // Corpus Dionysiacum. Bd. I / Hrsg. von B. R. Suchla. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1990. (Patristische Texte und Studien, 33).
- Syméon le Nouveau Théologien (1969) — Syméon le Nouveau Théologien. Hymnes 1-15 / Intr., texte crit. et notes par J. Koder; trad. par J. Paramelle, s.j. T. I. Paris, 1969. (SC, 156).
- Theodore Metochites (2002) — Theodore Metochites on Ancient Authors and Philosophy. Semeioseis gnomikai 1-26 & 71. A Critical Edition with Introd., Trans., Notes, and Indexes by K. Hult. With a Contribution by B. Bydén. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2002. (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, LXV).
- Theoleptos of Philadelpheia (1992) — Theoleptos of Philadelpheia. The Monastic Discourses. A Critical Ed., Trans. and Study by R. E. Sinkewicz, C. S. B. Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1992. (Studies and Texts, 111).
- Theophanes Continuatus (1838) — Theophanes Continuatus. Lib. III // Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus / ex rec. I. Bekkeri. Bonnae, 1838. (CSHB, XLIV).
- Thurn (1973) — Thurn I. Index locorum // Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / Editio princeps; rec. I. Thurn. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1973. (CFHB. Series Berolinensis, V).
- Van den Daele (1941) — Van den Daele A, S.J. Indices pseudo-Dionysiani. Leuven: Universiteitsbibliotheek, 1941.
- Webb (1999) — Webb R. The Aesthetics of Sacred Space: Narrative, Metaphor, and Motion in Ekphraseis of Church Buildings // DOP. 1999. Vol. 53. P. 59-74.
- Wulff (1929-1930) — Wulff O. Das Raumerlebnis des Naos im Spiegel der Ekphrasis // BZ. 1929-1930. Bd. 30. S. 531-539.
- Xenophontos (2021) — Xenophontos S. Exploring Emotions in Late Byzantium: Theodore Metochites on Affectivity // Byz. 2021. Vol. 91. P. 423-463.