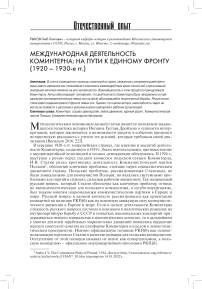Международная деятельность Коминтерна: на пути к единому фронту (1920 - 1930-е гг.)
Автор: Рыков Глеб Олегович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье освещаются страницы советской истории, связанные с репрезентацией феномена левого движения как сложнейшего комплекса взаимодействия ярких личностей и организаций, оказавших весомое влияние на все человечество. Важнейшая роль в этом процессе принадлежала Коминтерну. Автор обосновывает положение, что деятельность Коминтерна была направлена на преодоление противоречий внутри левых сил на фоне обострившейся политической борьбы. Результатом стала идея создания единого фронта левых сил. Однако, по оценке автора, масштабность задач не могла не привести к расколам и уклонам внутри компартий и рабочих организаций.
Коминтерн, социал-демократия, левое движение, единый фронт, коммунистическая партия польши, коммунистическая партия австралии
Короткий адрес: https://sciup.org/170191611
IDR: 170191611 | DOI: 10.31171/vlast.v30i1.8803
Текст научной статьи Международная деятельность Коминтерна: на пути к единому фронту (1920 - 1930-е гг.)
М етодологическим основанием данной статьи является положение выдающегося теоретика истории Иоганна Густава Дройзена о сущности интерпретации, которая заключается в возможности увидеть в событиях прошлого историческую реальность с учетом тех условий, которые требовали своей реализации [Васильев 2016: 222].
В середине 1920-х гг. в европейских странах, где влияние и масштаб деятельности Коминтерна, созданного в 1919 г., были значительными, противостояние с внутрипартийной оппозицией и социал-демократами обострилось. В 1924 г., выступая с речью перед съездом комиссии польской секции Коминтерна, И.В. Сталин резко критиковал деятельность Коммунистической партии Польши1, обозначив ключевые проблемы, стоящие перед социалистическим движением страны. Польские проблемы, рассматриваемые Сталиным, не были уникальными для коммунистов Польши, но являлись системными проблемами для партий в странах с сильным рабочим движением. Так называемый русский вопрос, который Сталин обозначил как ключевую проблему, отнюдь не внешнеполитическую для польского коммунизма, а сугубо внутреннюю, был знаком многим национальным коммунистическим партиям в Европе и мире. Русский вопрос в данном контексте рассматривался как ориентация компартий на позицию РКП(б) как на основную движущую силу коммунистического движения в Европе и мире. Если в начале деятельности Коминтерна сложность русского вопроса состояла в основном в политических реакциях на внутрипартийную борьбу в СССР и попытках национальных компартий придерживаться некоего плюрализма в идеологических аспектах, то в дальнейшем у многих деятелей зарубежных марксистских движений появилось ощущение некоего советского диктата на платформе Коминтерна и в целом в левом политическом пространстве. Именно официальную позицию РКП(б) как основополагающую предлагал Сталин в качестве примера для польских коммунистов. Отступление от этой позиции называл не иначе как оппортунизмом, а польскую компартию – «филиалом» внутрипартийной оппозиции РКП(б).
Немецкий вопрос в сталинской повестке был не менее важным и во многом вытекал из русского вопроса. Сталин критиковал позицию руководства польской компартии в отношении ее поддержки правого меньшинства германской компартии. Понимая весомую роль немецкого пролетариата в возможной революции в Европе, Сталин в своей речи объявил необходимым поддерживать всеми силами революционно настроенный элемент внутри компартий и воздерживаться от солидарности с правым крылом – оппортунистически настроенным и близким по взглядам к социал-демократии. Он выступил категорически против мягких методов борьбы и позитивного отношения как старой, так и новой буржуазии и призвал центральный комитет КПП следовать политике советской компартии.
Именно в этом вопросе прослеживались отторжение других левых в лице социал-демократов и борьба с правым уклоном в партиях, что в будущем привело к полному размежеванию левых сил в Европе, из-за чего во многом оказался предрешен успех фашистских партий. Но на тот момент, когда германская социалистическая революция представлялась советскому лидеру делом не только реальным, но и крайне важным, не должно было быть внутренних препятствий в деятельности компартий, направленной на достижение мировой социалистической революции. Проблема взаимодействия (точнее, его отсутствия) между сторонниками Коминтерна и социал-демократами наблюдалась во многих европейских странах [Thorpe 2000: 284].
Приверженность к сотрудничеству с другими левыми силами со стороны коммунистических партий активно порицалась Москвой, данный подход был объявлен оппортунистическим. Подобной критике подвергались компартии стран, в которых были сильны просоветские позиции в левом движении, как это было с польской и германской коммунистическими партиями. В противовес этому среди сильных европейских компартий росло неодобрение доминирующего влияния СССР в определении вектора развития коммунистического движения. Несмотря на формальное равенство всех компартий, центральную роль в принятии решений играла РКП(б). Известный итальянский коммунист Пальмиро Тольятти саркастически замечал по этому поводу: «Конечно, у нас есть Устав Интернационала, который гарантирует некоторые права некоторым товарищам. Но кое-чего в этом Уставе нет, а именно – пункта о положении русской партии в Интернационале, ее руководящей функции. Это – вне всяких уставов» [Макдермот, Агню 2000: 60].
На фоне указанной ситуации любопытным предстает положение в другой части мира. В своей политической деятельности определенных успехов добилась Коммунистическая партия Австралии. И если к моменту своего основания в начале 1920-х гг. молодая компартия Австралии насчитывала не более 300 членов, то к концу десятилетия коммунисты стали активным игроком в политическом пространстве континента. Однако положение левого революционного движения не было безоблачным. На V конгрессе Коминтерна в Москве в 1924 г. австралийская коммунистка Дора Монтефиоре рассказала о серьезных проблемах, стоящих перед коммунистическим движением в ее родной Австралии, а также о проблемах рабочего и антиколониального движения в британских доминионах1. С ростом числа сторонников рабочего движения Коммунистическая партия Австралии громко заявила о себе на политическом поле не только доминиона, но и региона в целом. С ростом численности австралийских коммунистов росла и активность левой печати. Периодические издания левого толка печатались значительными тиражами – от 6 до 13 тыс. экз. В течение 1920-х гг. австралийские коммунисты вели активную агитацию во всех массовых организациях рабочего движения, организовывали массовые забастовки, включались в деятельность профсоюзного движения.
Однако основной проблемой для компартии стало не только активное препятствие со стороны правых, консервативных сил как в парламенте доминиона, так и на местах, но и сложное взаимодействие с австралийскими лейбористами. Как и в случае с коммунистами метрополии, австралийские силы вынуждены были конкурировать с социал-демократами за умы австралийских рабочих. И если в странах с сильными компартиями это была жесткая и непримиримая борьба, то австралийским коммунистам, осознававшим свою малую численность, приходилось интегрироваться в организации лейбористской партии и через их ресурсы продвигать свою деятельность. В 1923 г. Коммунистическая партия Австралии даже выступала за вхождение в австралийскую лейбористскую партию на правах коллективного члена, но правое лейбористское руководство отклонило это предложение компартии. Несмотря на это, Монтефиоре надеялась выступить единым фронтом с лейбористами в борьбе за интересы рабочего класса, осознавая общие социалистические идеалы движений, хотя в Европе нарастал вектор противодействия коммунистов и социал-демократов. Помимо этого, Монтефиоре обозначила важную тему взаимодействия колониальных компартий с компартией метрополии, где последней отводится значение направляющего органа в реализации общей деятельности.
Но британские коммунисты на фоне обострившегося противостояния с лейбористами были более озабочены внутренними делами и не стремились активно включаться в работу колониальных компартий, в частности не оказали поддержку совместным проектам австралийских лейбористов и примкнувших к ним коммунистов. Любопытно, что австралийская коммунистическая политическая деятельность, даже в формате левого движения, весьма сильно отличалась от господствующей среди компартий Старого света. Компартия Австралии продвигала идею единого фронта с лейбористами, что в рамках Европейского континента на тот период было фактически невозможным из-за глубоких противоречий между социал-демократами и коммунистами.
В условиях принципиальных противоречий между Коминтерном и социал-демократией идея о поддержке британскими коммунистами австралийских лейбористов выглядит весьма наивной, хотя в данном случае именно политика революционного чутья (о чем, в частности, говорил Сталин, выступая на заседании польской комиссии) и политический прагматизм, к которому призывала Монтефиоре, были способны дать определенный результат. Такая политика не являлась оппортунизмом и отходом от идей революции, а была настоящим способом борьбы в конкретных политических условиях. К 1929 г. руководство австралийской компартии окончательно потеряло доверие Коминтерна, после чего многие из членов партии ушли в вынужденную отставку, а партия перешла под тотальный контроль Коминтерна и придерживалась его линии, известной как «третий период». Новый расцвет партии в связи с развертыванием значительной деятельности, направленной на взаимодействие внутри широкого левого движения, пришелся на вторую половину 1930-х гг., когда идея единого фронта левых сил против фашизма вновь вышла на передний план в политике взаимодействия с социал-демократическим элементом.
На V конгрессе Коминтерна обсуждался вопрос, важный для коммунистов зависимых от капиталистических метрополий территорий. Он был посвящен теме «цветных» рабочих, их интеграции в общее рабочее движение Австралии и всей Океании. Проблема расизма среди австралийцев, а также опасения рабочего класса за свои рабочие места считались проблемой сугубо капиталистической, а совместная борьба выходцев из колониальной Индии и аборигенов с белыми рабочими представлялась залогом будущего успеха компартии на континенте.
Подобная же пропагандистская работа велась Коминтерном и с чернокожим населением колониальных империй и Североамериканских Соединенных Штатов. Помимо журнала «Коммунистический интернационал», ориентированного прежде всего на жителей метрополий, с 1928 г. начался выпуск журнала Negro Worker , предназначенного для африканцев, а также жителей Вест-Индии и для афроамериканцев под лозунгом: «За свободу Африки! За освобождение негритянских народов!»1. Данное периодическое издание возникло под патронажем Коминтерна через финансовое посредничество левой организации «Международный профсоюзный комитет негритянских рабочих».
В сфере борьбы чернокожего населения против колониализма знаковую роль сыграл тринидадский общественный деятель и первый редактор упомянутого выше журнала Джордж Падмор2. После вступления в американскую компартию в 1924 г. Падмор вел активную агитационную деятельность среди чернокожего населения, а через несколько лет в Москве на конгрессе Коммунистического интернационала выступил с докладом о создании Лиги профсоюзного единства. Под эгидой Коминтерна в рамках своей деятельности как главы Негритянского бюро Красного интернационала профсоюзов в 1930 г. в Гамбурге он организовал Международную конференцию негритянских рабочих, которая собрала значительное число участников из многих колониальных стран Африки и Вест-Индии, несмотря на препоны, которые чинили колониальные администрации. В ходе конференции одной из опасных проблем, стоящих перед негритянским рабочим движением, был назван ревизионизм и попытка отойти от марксистского восприятия борьбы, переведя все сугубо в расовую плоскость. Также, по мнению участников конференции, одним из главных противников деколонизации являлись социал-демократы империалистических стран и британские лейбористы, ставшие, в частности, ярким примером оппортунизма и называемые не иначе как «агенты империализма» в левом стане. Многие делегаты из-за преследования у себя на родине вынуждены были использовать псевдонимы: особенно это касалось участников, прибывших из британских колоний и доминионов, где власти особо жестко пресекали прокоммунистические и антиколониальные настроения зарождающейся черной интеллигенции. Именно интеллигенция представляла наибольшую угрозу колониальному господству империалистов, т.к. обеспечивала просвещение и руководящую деятельность пролетариата, а также выстраивала связи с Коминтерном и обеспечивала своим организациям его финансовую и организационную поддержку. Например, в Гамбии в 1929 г. профсоюз одного из таких просвещенных лидеров сумел организовать забастовку, парализовавшую экономику колонии на 18 дней. Британская администрация видела в этих успехах несомненное подрывное влияние Коминтерна.
После прихода к власти нацистов и фашизации многих государств в Западной Европе в непосредственной близости от границ советского государства произошел решительный разворот в политике Коминтерна. К 1935 г. крупнейшие колониальные империи Британия и Франция – основные противники СССР как на идеологическом, так и на геополитическом простран- стве, – отошли на второй план, уступая место растущим и агрессивным германскому и японскому империализму. Это смещение политических векторов и сопутствующее ему налаживание отношений с социал-демократами заставили Падмора и многих других деятелей пересмотреть свое отношение к политике Кремля. Падмор не только покинул Международный профсоюзный комитет негритянских рабочих, сославшись на недостаток финансирования, но и начал критиковать политику Коминтерна и сочувствующих ему организаций. Этот разворот во взглядах, возможно, стал следствием неприятия политики СССР как главного идейного локомотива, направленной на сближение с западными демократиями и социал-демократами, в т.ч. с британским Народным фронтом, что, с точки зрения левых сил колониальных территорий, было предательством интересов негритянского и колониального пролетариата.
В очередной раз в этом демарше прослеживались противоречия внутри левого движения. И речь идет не только об абсолютном недоверии чернокожих рабочих к социал-демократам, решительное нежелание последних поддерживать борьбу с колониализмом, здесь основной проблемой становится невозможность продолжения политики многовекторности, которой ранее славился Коминтерн. В условиях фашизации Европы, когда осознание неизбежности крупного военного конфликта становилось все очевиднее для лидеров коммунистических объединений, и прежде всего СССР, Коминтерн просто не мог не пойти на сближение с сильными социал-демократическими партиями, чтобы консолидировать усилия по всему левому фронту. Такое, пусть и запоздалое, объединение было следствием понимания руководством настоящей опасности, рядом с которой предыдущие противоречия отступали на второй план.
Основной проблемой, стоящей перед рабочим движением начиная с 1919 г., было не только противодействие превосходящим силам капиталистических держав, но и преодоление значительных противоречий внутри левого лагеря. Раскол между идеями коммунистов и социал-демократов не мог не отразиться на идеологических взаимоотношениях внутри компартий, особенно с усилением роли Советского Союза, снижением революционной активности и уменьшением перспектив мировой революции. С течением времени прослеживается любопытное изменение позиции руководства СССР в отношении социал-демократов и сочувствующих им коммунистов. В СССР боролись с оппортунизмом и правым уклоном в крупных европейских компартиях, но при этом в странах, где позиции Коминтерна были слабы, проявлялись попытки гибкой прагматичной политики. В дальнейшем, когда фашизация Европы стала очевидной, Коминтерн поменял спектр своего взаимодействия с социал-демократами, осознавая значительную угрозу военной опасности.
Но это вызвало недовольство у национальных компартий с последующими обвинениями СССР в проведении не интернациональной, а просоветской политики. Финальным аккордом, ведущим к концу существования Третьего интернационала, стали три ключевых эпизода. Первым стали чистки 1937– 1938 гг., когда многие иностранные коммунисты, не разделявшие линию ВКП(б), были репрессированы (репрессивные методы в отношении зарубежных коммунистов позднее были использованы внутри СССР в период позднего сталинизма, в частности в Ленинградском деле [Васильев, Шепелев 2016]). Конец же всему положил 1943 г., когда Коминтерн прекратил свое существование в рамках негласных договоренностей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции.
Список литературы Международная деятельность Коминтерна: на пути к единому фронту (1920 - 1930-е гг.)
- Васильев Ю.А. 2016. Историка Иоганна Густава Дройзена как методология истории. - Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 218-226.
- Васильев Ю.А., Шепелев В.Н. 2016. Борьба политических элит в условиях позднего сталинизма. Карельский отголосок "Ленинградского дела". 1949-1950 гг. - Исторический архив. № 3. С. 3-31.
- Макдермот К., Агню Дж. 2000. Коминтерн. История международного коммунизма от Ленина до Сталина: монография (пер. с англ. И.С. Давидян). М.: АИРО-ХХ. 223 с.
- Thorpe A. 2000. The British Communist Party and Moscow, 1920-1943. Manchester: Manchester University Press. 308 р.