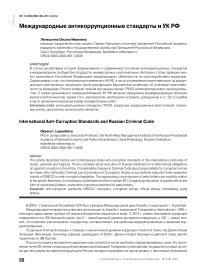Международные антикоррупционные стандарты и УК РФ
Автор: Лепешкина О.И.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (8), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены история формирования и современное состояние антикоррупционных стандартов в международном сообществе государств, универсальных и региональных. Автором в статье проведен анализ выполнения Российской Федерацией международных обязательств по противодействию коррупции. Сделан вывод о том, что значительные изменения в УК РФ, в части установления ответственности за коррупционные преступления, произошли после ратификации Европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Россия успешно прошла три раунда оценки ГРЕКО антикоррупционного законодательства. С целью дальнейшего совершенствования УК РФ автором определены квалифицирующие признаки мелкого взяточничества. Кроме того, законодателю необходимо устранить допущенную в ст. 291.2 ошибку в части назначения наказания в виде исправительных работ.
Антикоррупционные стандарты, греко, коррупция, коррупционные преступления, получение взятки, дача взятки, мелкое взяточничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14121115
IDR: 14121115 | DOI: 10.22394/2686-7834-2021-2-30-34
Текст научной статьи Международные антикоррупционные стандарты и УК РФ
В 2003 г. Генеральной Ассамблей ООН был учрежден Международный день борьбы с коррупцией — 9 декабря.
Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International с 1995 г. ежегодно представляет данные об индексе восприятия коррупции в мире. С 2012 г. индекс восприятия коррупции определяется по 100-балльной шкале, где 0 — самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий, что позволяет рассматривать государства, соответственно, как наиболее коррумпированные и наименее коррумпированные.
По данным этой организации, к странам с самым низким уровнем коррупции относятся такие, как Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария. В 2020 г. Дания и Новая Зеландия в рейтинге также заняли первое место (88 баллов).
Россия по индексу восприятия коррупции пока остается в числе наиболее коррумпированных стран. На протяжении почти 20-летнего периода рейтингования организацией Transparency International государств по новой системе расчета индекс восприятия коррупции в России находится примерно на одном уровне, с некоторым улучшением ситуации в отдельные годы: в 2012 г. — 28 баллов, в 2013 г. — 28 баллов, в 2014 г. — 27 баллов, в 2015 г. — 29 баллов, в 2016 г. — 29 баллов, в 2017 г. — 29 баллов, в 2018 г. — 28 баллов, в 2019 г. — 28 баллов. В 2020 г. Россия набрала 30 баллов из 100 и заняла 129-е место из 180 государств1.
СТАТЬИ
В международном сообществе государств на необходимость выработки международно-правовых основ противодействия коррупции было обращено внимание только в начале 1990-х гг.
Одной из первых, кто предпринял в этом направлении конкретные шаги, была Организация Объединенных Наций. Так, в 1990 г. на 8-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями была принята Резолюция 7 «Коррупция в сфере государственного управления» (A/CONF.144/28/Rev.1)2. Резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. был принят имеющий рекомендательный характер Международный кодекс поведения государственных должностных лиц. Также Резолюцией 51/191 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г. была принята Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях.
В последующем регулированию вопросов противодействия коррупции были посвящены соответствующие международные договоры: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.
Однако наиболее ранние антикоррупционные конвенции были приняты в ряде региональных международных организаций. Первая — в рамках Организации американских государств — Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией от 29 марта 1996 г. 26 мая 1997 г. Советом Европейского союза была принята Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц европейских сообществ или должностных лиц государств — членов Европейского союза. Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 г. была принята Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках.
Правовую основу противодействия коррупции в Совете Европы составляют: Резолюция Комитета министров Совета Европы № (97) 24 от 6 ноября 1997 г. «О двадцати руководящих принципах борьбы против коррупции», Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г., а также Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (2000) 10 от 11 мая 2000 г. государствам-членам о Кодексе поведения государственных должностных лиц и Рекомендация Комитета министров Совета Европы № REC (2003) 4 от 8 апреля 2003 г. «Об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний».
Основополагающей в антикоррупционной деятельности Совета Европы является Резолюция Комитета министров Совета Европы № (97) 24 от 6 ноября 1997 г. В ней сформулированы двадцать принципов борьбы с коррупцией, в частности: «1. Проводить эффективные меры для предотвращения коррупции и в этой связи развивать общественное сознание и способствовать продвижению этического поведения. 2. Обеспечивать скоординированные действия по криминализации внутригосударственной и международной коррупции… 4. Обеспечивать соответствующие меры для конфискации и лишения доходов в результате случаев коррупции. 5. Обеспечивать соответствующие меры для предотвращения случаев использования юридических лиц для прикрытия актов коррупции…»3
В государствах — участниках Содружества Независимых Государств в сфере противодействия коррупции принят ряд модельных законов: «О борьбе с коррупцией» от 3 апреля 1999 г., «Основы законодательства об антикоррупционной политике» от 15 ноября 2003 г., «О противодействии коррупции (новая редакция)» от 25 ноября 2008 г.
Следует также отметить, что антикоррупционные положения содержатся и в международных правовых актах, регулирующих вопросы противодействия другим связанным с коррупцией видам преступлений, в частности, организованной преступности, легализации преступных доходов. Так, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности предусматривает криминализацию коррупции и меры борьбы с ней (ст. 8, 9).
А. А. Каширкина и О. И. Тиунов указывают: «Позитивное накопление международно-правовой базы по противодействию коррупции привело к формированию специального антикоррупционного инструментария, в который входят международные антикоррупционные принципы и стандарты»4. К специальным принципам в сфере борьбы с коррупцией авторы относят: «принцип действенного предупреждения и искоренения коррупции на основе норм как национального, так и международного права, принцип уголовной ответственности за коррупцию как физических, так и юридических лиц»; а к стандартам, например, понятия должностного лица — «эффективность, соразмерность уголовного наказания за подкуп должностного лица» и др.5
СТАТЬИ
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» общепризнанные нормы и принципы и международные договоры РФ также составляют правовые основы противодействия коррупции (ст. 2)6.
В Уголовном кодексе РФ 1996 г. (далее — УК РФ) ответственность за коррупционные преступления установлена, прежде всего, в гл. 30 (публичные, совершаемые должностными лицами) и в гл. 23 (непубличные, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих организациях).
Согласно Указанию Генеральной прокуратуры РФ № 35/11 и Министерства внутренних дел РФ № 1 от 24 января 2020 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», к преступлениям коррупционной направленности относятся отвечающие таким признакам, как: наличие надлежащих субъектов, связь деяния со служебным положением субъекта, наличие у субъекта корыстного мотива, прямой умысел. Безусловно, к коррупционным преступлениям относятся предусмотренные статьями: ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 200.5, 201.1, 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 (перечень 23)7.
Значительные изменения, которые произошли в уголовном законодательстве об ответственности за коррупционные преступления в течение 2000-х гг., в основном были обусловлены необходимостью выполнения Россией международных правовых обязательств, прежде всего после ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.8
В качестве контролирующего органа за выполнением государствами положений конвенции 1 мая 1999 г. была учреждена Группа государств против коррупции — ГРЕКО. Россия является членом ГРЕКО с 1 февраля 2007 г., даты вступления для нее конвенции в силу, поскольку любое государство после ратификации и вступления для него конвенции в силу автоматически становится членом ГРЕКО (ч. 4 ст. 32 конвенции). Россия также подписала Дополнительный протокол от 15 мая 2003 г. о криминализации коррупционных деяний в отношении третейских судей9.
Россия успешно прошла три раунда оценки ГРЕКО по имплементации положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию10. Первый раунд оценки (2000–2002 гг.) был направлен на анализ деятельности национальных органов по борьбе с коррупцией. Второй раунд (2003–2006 гг.) касался вопросов противодействия коррупции в государственном и муниципальном управлении и конфискации имущества, а также уголовной ответственности юридических лиц. Третий раунд (начат 1 января 2007 г.) посвящен двум темам: «Криминализация деяний» и «Прозрачность финансирования политических партий».
В рамках первого и второго раундов оценки в отношении России были высказаны рекомендации: 1) расширить предусмотренный в ст. 104.1 УК РФ перечень коррупционных преступлений, за которые установлена конфискация имущества, другими, в частности, ст. 291, 201; 2) установить запрет на получение государственными и муниципальными служащими подарков, кроме полученных по протокольным мероприятиям, что допускает ст. 575 Гражданского кодекса РФ; 3) установить уголовную ответственность для юридических лиц за коррупционные преступления (рекомендации xiv, xxi, xxiv).
По теме «Криминализация деяний» третьего раунда оценки в отношении России, исходя из Руководящего принципа 2 (уголовная ответственность за коррупцию), ГРЕКО сделала девять рекомендаций: i) криминализировать подкуп всех членов международных парламентских собраний, а также судей и должностных лиц международных судов; ii) криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей и ратифицировать Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию; iii) предусмотреть в статьях об активном подкупе (дача взятки) и пассивном подкупе (получение взятки) таких признаков, как предложение, обещание и просьба о предоставлении преимущества и принятие предложения или обещания; iv) включить в предмет преступлений, связанных со взяточничеством или коммерческим подкупом, преимущества неимущественного характера; v) криминализировать случаи, когда взятка передается третьим лицам, как физическим, так и юридическим; vi) предусмотреть в ст. 204 УК РФ положения о передаче предмета коммерческого подкупа третьим лицам, предоставлении неимущественных преимуществ, расширении круга субъектов преступления и признания таковыми любых работников этой организации, а также исключить из примечаний к ст. 204 положение о том, что если ущерб причинен исключительно интересам этой организации, то уголовное преследование осуществляется только по заявлению организации или с ее согласия; vii) криминализировать злоупотребление влиянием; viii) увеличить сроки давности по ст. 291 и ст. 184 УК РФ; ix) проанализировать положения УК РФ о специальной защите при деятельном раскаянии, что предусмотрено в примечаниях к ст. 204, 291 и 291.1 УК РФ.
СТАТЬИ
Институт уголовной ответственности юридических лиц в России не предусматривался ни в дореволюционном уголовном законодательстве, ни в советский период. Как однозначно указывал Н. С. Таганцев, уголовная ответственность юридических лиц «представляется более чем спорной», и приводил два довода, «подчерпываемые или из самой конструкции юридического лица, или из основания уголовной кары». Юридические лица, по его словам, — продукт юридического вымысла, а уголовная ответственность обусловливается виновностью лица, чего нет в лице юридическом, действующем через своих представителей11.
Российский законодатель ввел административную ответственность для юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”» в КоАП РФ 2001 г. была введена ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По данным «Обзора судебной практики рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 г.), судьями судов общей юрисдикции по ст. 19.28 КоАП РФ были рассмотрены: в 2017 г. — 603 дела по ч. 1, 57 дел по ч. 2 и 14 дел по ч. 3; в 2018 г. — 607 дел по ч. 1, 74 дела по ч. 2 и 8 дел по ч. 3; в 2019 г. — 431 дело по ч. 1, 46 дел по ч. 2 и 8 дел по ч. 312.
Относительно рекомендации ГРЕКО о криминализации предложения, обещания и просьбы о предоставлении преимущества и принятия предложения или обещания как самостоятельного преступления, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (в ред. от 24.12.2019 № 59) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», «обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений» (п. 13.1), т. е. как приготовление к преступлению.
В числе основных изменений уголовного закона, касающихся определения признаков коррупционных преступлений, являются следующие. Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ13 в ст. 290 «Получение взятки» расширен перечень субъектов преступления — в него включены иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации. Этим же законом была введена ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве», в ч. 5 которой криминализированы обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Следует отметить, что ранее в УК РСФСР 1960 г. предусматривалась ответственность за посредничество во взяточничестве (ст. 174.1).
Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ14 были исключены п. 2 и 3 из примечаний к ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», согласно которым в случае причинения ущерба исключительно коммерческой организации уголовное преследование осуществляется только по заявлению этой организации или с ее согласия.
Существенные дополнения в УК РФ об ответственности за коррупционные преступления внес Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ15, в целом направленный на усиление ответственности за коррупцию. В соответствии с данным законом в ст. 290 получение взятки охватывает те случаи, когда «взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу». Соответствующие положения были предусмотрены в ст. 184 и 204 УК РФ. Также УК РФ дополнен ст. 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе» и ст. 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп» и 291.2 «Мелкое взяточничество».
Изменения должны быть внесены и в состав мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ), в части установления дополнительных квалифицирующих признаков. Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 гг., утвержденным Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378, подготовить такие предложения было поручено Генеральной прокуратуре РФ с участием Верховного Суда РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности РФ и Следственного комитета РФ (п. 39).
СТАТЬИ
Поскольку ст. 291.2 УК РФ содержит специальную норму по отношению к ст. 290 и 291 УК РФ и применяется в том числе при наличии предусмотренных в них квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, считаем, что перечень этих обстоятельств следует предусмотреть непосредственно в ст. 291.2 УК РФ, с учетом установленных в ней менее строгих санкций.
Кроме того, требует устранения допущенная законодателем системная ошибка в части определения наказания в виде исправительных работ в ч. 2 ст. 291.2 «Мелкое взяточничество» УК РФ. Так, в альтернативной санкции ч. 2 ст. 291.2 предусмотрено наказание «исправительными работами на срок до трех лет». Однако указанный срок противоречит установленному в ч. 2 ст. 50 «Исправительные работы» УК РФ максимальному пределу этого наказания, согласно которой «Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет».
Список литературы Международные антикоррупционные стандарты и УК РФ
- Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. Т. Я. Хабриева. М.: ИД "Юриспруденция". 2014. 672 с.
- Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1. Тула: Автограф. 2001. С. 309-310.
- Шорохов В. Е. Антикоррупционная политика ООН и России: сравнительно-правовой аспект // Международное публичное и частное право. 2019. № 6. С. 36-39.