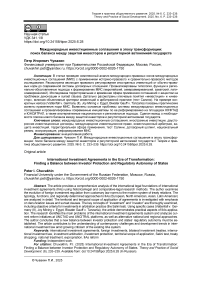Международные инвестиционные соглашения в эпоху трансформации: поиск баланса между защитой инвесторов и регуляторной автономией государств
Автор: Чувахин П.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен комплексный анализ международноправовых основ международных инвестиционных соглашений (МИС) с применением историкоправового и сравнительноправового методов исследования. Рассмотрена эволюция правового регулирования иностранных инвестиций от обычноправовых норм до современной системы договорных отношений. Проанализированы типология, функции и региональнообусловленные подходы к формированию МИС (европейский, североамериканский, азиатский, латиноамериканский). Исследована территориальная и временная сфера применения соглашений с акцентом на проблемах денонсации и sunset clauses. Детально рассмотрены ключевые понятия «инвестиция» и «инвестор», включая объективные критерии инвестиций в арбитражной практике (тест Салини). На примере конкретных кейсов (Vattenfall v. Germany (II), Joy Mining v. Egypt, Biwater Gauff v. Tanzania) показаны практические аспекты применения норм МИС. Выявлены основные проблемы системы международных инвестиционных соглашений и проанализированы современные инициативы по ее реформированию на площадках ЮНКТАД и ЮНСИТРАЛ, а также альтернативные национальные и региональные подходы. Сделан вывод о необходимости поиска нового баланса между защитой инвесторов и регуляторной автономией государств.
Международные инвестиционные соглашения, иностранные инвестиции, двусторонние инвестиционные договоры, международное инвестиционное право, инвестиционный арбитраж, защита инвестиций, территориальная сфера применения, тест Салини, договорный шопинг, национальный режим, экспроприация, реформирование МИС
Короткий адрес: https://sciup.org/149148465
IDR: 149148465 | УДК: 341.1/8 | DOI: 10.24158/tipor.2025.6.28
Текст научной статьи Международные инвестиционные соглашения в эпоху трансформации: поиск баланса между защитой инвесторов и регуляторной автономией государств
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Историко-правовые предпосылки формирования системы международных инвестиционных соглашений . Формирование международно-правовых основ регулирования иностранных инвестиций представляет собой длительный исторический процесс, неразрывно связанный с развитием международных экономических отношений. Первоначально вопросы защиты иностранной собственности регулировались обычными нормами международного права, сформировавшимися в период колониальной экспансии. Эти нормы основывались на концепции «минимального стандарта обращения», предполагавшей необходимость предоставления определенных гарантий иностранным лицам вне зависимости от того, какой правовой режим государство предоставляло собственным гражданам. Однако в период послевоенной деколонизации, когда десятки новых независимых государств отказались признавать навязанные им стандарты защиты инвестиций, проявилась несостоятельность обычно-правового регулирования1. В противовес позиции развитых государств, продвигавших минимальный международный стандарт обращения, развивающиеся страны сформулировали альтернативные концепции. Наиболее известной из них стала «доктрина Кальво», согласно которой иностранные инвесторы не должны пользоваться бóльшими правами, чем национальные, а споры должны разрешаться исключительно в национальных судах принимающей страны.
Период деколонизации ознаменовался принятием в рамках Генеральной Ассамблеи ООН резолюций, утверждавших постоянный суверенитет государств над своими природными ресурсами. Кульминацией этого процесса стало провозглашение в 1974 г. «Нового международного экономического порядка» (НМЭП) и принятие Хартии экономических прав и обязанностей государств, статья 2 которой закрепляла право каждого государства национализировать иностранную собственность с выплатой «соответствующей компенсации».
Как отмечает А.А. Данельян, «концепция НМЭП представляла серьезный вызов традиционному пониманию международно-правовой защиты иностранных инвестиций»2. Однако консенсус вокруг НМЭП оказался недолговечным. С конца 1980-х гг., в контексте либерализации мировой экономики, маятник качнулся в обратную сторону. Н.Г. Доронина и Н.Г. Семилютина подчеркивают, что «начался период формирования договорных норм международного инвестиционного права, получивших закрепление в двусторонних инвестиционных договорах (ДИД), региональных и многосторонних соглашениях» (Доронина, Семилютина, 2012: 112).
Историческая эволюция международно-правового регулирования иностранных инвестиций демонстрирует диалектический характер этого процесса, отражающий поиск баланса между интересами государств-экспортеров капитала и государств-импортеров капитала.
Понятие, виды и функции международных инвестиционных соглашений . Международные инвестиционные соглашения (МИС) сформировали фундамент современной системы защиты иностранных инвестиций. Представляя собой международные договоры между двумя или более государствами, они устанавливают правовые рамки для осуществления, продвижения и защиты инвестиций. В современной системе международного инвестиционного права именно МИС выступают в качестве основного источника правового регулирования, закрепляя специальный режим защиты, который часто обеспечивает инвесторам более широкие гарантии по сравнению с национальным законодательством принимающих государств.
Международные инвестиционные соглашения можно классифицировать по различным основаниям:
-
1) по количеству участников: двусторонние инвестиционные договоры (ДИД); многосторонние инвестиционные соглашения на региональном уровне (например, НАФТА/USMCA, АСЕАН, Договор к Энергетической хартии); многосторонние инвестиционные соглашения универсального характера (например, ТРИМС);
-
2) по предмету регулирования: специализированные инвестиционные соглашения; комплексные соглашения, включающие инвестиционные положения наряду с положениями о торговле и других аспектах сотрудничества;
-
3) по степени либерализации инвестиционного режима: соглашения, предоставляющие защиту только постинвестиционной стадии; соглашения, распространяющие определенные гарантии на прединвестиционную стадию;
-
4) по модельному подходу: соглашения европейского типа, характеризующиеся относительной краткостью; соглашения американского типа, отличающиеся более детальной проработкой.
Несмотря на определенную стандартизацию МИС, региональные подходы к их заключению и содержанию демонстрируют существенные различия, отражающие специфику экономических, правовых и политических условий различных регионов мира. Региональные подходы к МИС значительно различаются. Характерными чертами европейского подхода являются: интеграция инвестиционных положений в соглашения о свободной торговле, детальное определение ключевых стандартов защиты иностранных инвестиций, замена традиционного арбитража инвестиционным судом с апелляционным механизмом. Североамериканский подход отличается комплексным регулированием предынвестиционной и постинвестиционной стадий, детальными положениями о прозрачности, включением вопросов охраны труда и окружающей среды, ограничениями на применение экспроприации к мерам регулирования. Азиатский подход демонстрирует наибольшее разнообразие в зависимости от экономического развития стран региона. Характерными чертами азиатского подхода являются: постепенная либерализация инвестиционных режимов, сохранение исключений для чувствительных секторов экономики, усиление координации инвестиционной политики в рамках региональных объединений (АСЕАН, ВРЭП). Латиноамериканский подход исторически отличался скептическим отношением к международному инвестиционному праву, что нашло выражение в доктрине Кальво. Однако в последние десятилетия наблюдалась значительная эволюция позиций стран региона. Как отмечает Р. Долцер, «маятник латиноамериканского отношения к международному инвестиционному праву качнулся от полного отрицания в сторону принятия, а затем снова в сторону более критического подхода» (Dolzer et al., 2022: 55).
Стоит отметить, что МИС выполняют ряд важных функций в системе международного экономического правопорядка:
-
1) защитная функция ‒ обеспечение правовой защиты инвесторов от неблагоприятных действий принимающего государства;
-
2) либерализационная функция ‒ создание правовых условий для либерализации инвестиционных режимов;
-
3) стабилизационная функция ‒ повышение стабильности и предсказуемости правового режима иностранных инвестиций;
-
4) интеграционная функция ‒ содействие включению национальных экономик в мировую экономическую систему;
-
5) стимулирующая функция ‒ создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций.
Практическое значение этих функций можно проиллюстрировать на примере инвестиционного спора Vattenfall v. Germany (II). После решения Германии об отказе от ядерной энергетики в 2011 г. шведская компания Vattenfall инициировала арбитражное разбирательство, требуя компенсации за досрочное закрытие двух ядерных электростанций. Защитная функция МИС позволила инвестору использовать международный механизм разрешения споров вместо обращения в национальные суды Германии. Одновременно стабилизационная функция проявилась в требованиях компании о защите ее законных ожиданий. Компенсация в размере 1,4 млрд евро, согласованная сторонами в 2021 г., показывает, как МИС способствует прогнозируемости правовых последствий регуляторных изменений. Этот случай также демонстрирует противоречие между защитой инвестиций и правом государства на регулирование в общественных интересах, что стало одним из ключевых вызовов для современной системы МИС1.
Несмотря на широкое распространение МИС, современная система международного инвестиционного права становится объектом все более острой критики. Как отмечает М. Сорнара-джа, «существующая архитектура МИС отражает по преимуществу интересы развитых стран и транснациональных корпораций, не обеспечивая адекватного баланса между защитой инвестиций и правом государств на регулирование в общественных интересах» (Sornarajah, 2021: 135).
Критики указывают на ряд фундаментальных проблем системы МИС:
-
1) отсутствие баланса прав и обязанностей – МИС традиционно закрепляют обширные права инвесторов без корреспондирующих обязанностей, включая обязательства в сфере защиты окружающей среды, трудовых прав и социальной ответственности;
-
2) ограничение регуляторных полномочий государств – расширительное толкование положений об экспроприации и справедливом и равноправном режиме создает «охлаждающий эффект» (regulatory chill), препятствующий реализации государствами легитимных публичных интересов;
-
3) фрагментированность системы – наличие тысяч перекрывающихся соглашений создает сложную и противоречивую правовую среду, порождающую проблемы «договорного шопинга» и непоследовательность в правоприменении.
Эти структурные недостатки обуславливают необходимость фундаментального переосмысления системы МИС и поиска баланса между защитой законных интересов инвесторов и правом государств на регулирование.
Сфера применения международных инвестиционных соглашений . Сфера применения МИС определяет границы действия установленного ими правового режима и имеет критическое значение для определения объема прав и обязанностей сторон. Она включает в себя как материальные аспекты (ratione materiae), так и формальные ‒ территориальное (ratione loci) и временное (ratione temporis) измерения.
Географическая сфера применения МИС определяется, прежде всего, территорией государств-участников соглашения. Как указывает Д.К. Лабин, «территориальная сфера применения международного инвестиционного соглашения является одним из ключевых элементов его юрисдикционной структуры» (Лабин, 2008: 143).
Традиционно МИС содержат определение понятия «территория», которое может быть более или менее детализированным. Например, статья 1 канадско-китайского ДИД 2012 г. включает в определение территории сухопутную территорию, воздушное пространство, внутренние воды, территориальное море, исключительную экономическую зону и континентальный шельф1.
Особого внимания заслуживает вопрос о распространении действия МИС на субнациональные образования и государственные органы. Большинство современных МИС содержит положения, прямо указывающие на то, что обязательства по соглашению распространяются на все уровни власти принимающего государства, включая местные органы власти и административнотерриториальные образования.
Определив пространственные границы действия МИС через понятие «территория», необходимо также установить и его временные пределы, поскольку инвестиции представляют собой долгосрочные отношения, которые могут продолжаться в течение десятилетий и переживать изменения в политической и правовой среде принимающих государств. Временное измерение сферы применения МИС имеет не меньшее значение, чем территориальное, особенно в контексте современной тенденции пересмотра и денонсации инвестиционных соглашений.
Временная сфера применения МИС охватывает вопросы вступления соглашения в силу, его действия во времени и прекращения. Данный аспект имеет существенное значение для определения того, какие инвестиции подпадают под защиту соглашения и в течение какого периода эта защита действует.
Особый интерес представляет так называемая оговорка о продолжении действия, или sunset clause. Данное положение обеспечивает защиту инвестиций, осуществленных до прекращения договора, в течение дополнительного периода (обычно от 5 до 20 лет) после его прекращения. Как указывает С.А. Крупко, «оговорка о продолжении действия является важным инструментом стабилизации инвестиционного режима, обеспечивая инвесторам правовую определенность даже в случае изменения политики принимающего государства»2.
Вопрос о временной сфере применения МИС приобрел особую актуальность в контексте современной тенденции к денонсации инвестиционных договоров. Правовые последствия прекращения МИС регулируются как самими соглашениями, так и общими принципами международного права, кодифицированными в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. Согласно статье 70(1)(b) данной Конвенции, «прекращение договора... не влияет на какое-либо право, обязательство или юридическое положение сторон, возникшие в результате выполнения договора до его прекращения»3.
Важным аспектом сферы применения МИС является расширение использования оговорок и исключений в МИС, особенно со стороны развитых стран. Как указывает В.М. Шумилов, «эта тенденция отражает стремление государств к восстановлению баланса между защитой инвестиций и сохранением регуляторной автономии»4.
Ключевые понятия международных инвестиционных соглашений: «инвестиция» и «инвестор» . Определение основных понятий, в первую очередь «инвестиции» и «инвестора», имеет фундаментальное значение для установления сферы применения МИС ratione materiae и ratione personae. Стоит отметить, что эти определения очерчивают круг экономических отношений и субъектов, подпадающих под защиту соглашения, и, следовательно, являются ключевыми элементами инвестиционного договора.
В международной договорной практике выделяются два основных подхода к определению инвестиций:
-
1) подход, основанный на активах (asset-based definition) ‒ наиболее распространенный подход, при котором инвестиция определяется как «всякого рода активы» с последующим неисчерпывающим перечислением видов таких активов;
-
2) подход, основанный на предприятии (enterprise-based definition) ‒ определение инвестиции через понятие предприятия или компании.
В зависимости от объема охватываемых активов, определения инвестиций могут быть широкими (открытыми) или ограниченными (закрытыми).
В последние годы наблюдается тенденция к сужению определения инвестиций в МИС через различные механизмы, включая использование «закрытых» списков инвестиций, исключение определенных активов и секторов, ограничение инвестиций теми, которые осуществлены в соответствии с законодательством принимающего государства, и т. д.
Важным этапом в формировании объективных критериев инвестиций стало решение по делу Salini Costruttori SPA v. Kingdom of Morocco, в котором трибунал сформулировал четыре критерия, известные как тест Салини1:
-
1) вклад в денежной или иной форме;
-
2) определенная продолжительность;
-
3) элемент риска;
-
4) вклад в экономическое развитие принимающего государства.
Практическое применение теста Салини показывает его решающее значение для определения юрисдикции инвестиционных трибуналов. Например, в деле Joy Mining v. Egypt (2004)2 трибунал отказал в юрисдикции, поскольку банковские гарантии, которые истец считал «инвестицией», не соответствовали критериям теста. Особенно важным был вывод об отсутствии вклада в экономическое развитие Египта. Напротив, в деле Biwater Gauff v. Tanzania (2008)3 трибунал принял широкий подход, признав проект водоснабжения инвестицией, несмотря на его коммерческую неудачу, поскольку сам характер проекта подразумевал вклад в развитие. Таким образом, интерпретация критериев теста Салини имеет прямое влияние на возможность инвесторов получить защиту в рамках МИС, что влияет на структурирование международных инвестиций в целом.
Важным аспектом определения инвестиций является вопрос об их законности как необходимом условии предоставления защиты по МИС. Большинство современных инвестиционных соглашений содержит положение о том, что защита предоставляется только инвестициям, осуществленным «в соответствии с законодательством» принимающего государства. При этом, как отмечает И.З. Фархутдинов, «не всякое нарушение национального законодательства принимающего государства может служить основанием для отказа в защите: нарушение должно быть существенным и относиться к фундаментальным правовым нормам»4.
В отношении физических лиц-инвесторов ключевым критерием является гражданство (nationality). Для юридических лиц применяются критерии инкорпорации, места нахождения или контроля.
Особую проблему представляет практика корпоративной реструктуризации и «договорного шопинга» (treaty shopping), когда инвесторы создают сложные корпоративные структуры для получения защиты по наиболее благоприятным МИС. Как отмечает Дж. Баумгартнер, «с ростом числа инвестиционных соглашений и усложнением глобальных корпоративных структур проблема злоупотребления договорными преимуществами через корпоративную реструктуризацию приобретает все большую остроту» (Baumgartner, 2016: 83).
Многие современные МИС включают положения, направленные на предотвращение «договорного шопинга», такие как требование «существенной деловой активности» компании в стране происхождения и положения об отказе в преимуществах (denial of benefits).
Современные инициативы по реформированию системы международных инвестиционных соглашений . Признание структурных недостатков существующей системы МИС стимулировало запуск ряда значимых инициатив по ее реформированию на различных уровнях.
Так, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) с 2012 г. реализует программу реформирования международного инвестиционного режима, включающую:
-
1) рамочную основу инвестиционной политики в интересах устойчивого развития (Investment Policy Framework for Sustainable Development), предлагающую рекомендации по разработке инвестиционной политики и соглашений, согласованных с целями устойчивого развития;
-
2) «дорожную карту» реформирования международного инвестиционного режима, включающую пять направлений действий: защита права на регулирование при одновременном обеспечении защиты инвестиций, реформирование механизмов разрешения инвестиционных споров, развитие институционального взаимодействия, повышение системной согласованности, содействие устойчивому развитию.
Как отмечают Н.Г. Доронина и Н.Г. Семилютина, «инициатива ЮНКТАД направлена на поиск баланса между различными интересами и отражает признание необходимости фундаментального переосмысления принципов международного инвестиционного права в контексте глобальных вызовов XXI века» (Доронина, Семилютина, 2012: 154).
В то время как инициатива ЮНКТАД направлена на комплексное переосмысление содержательных аспектов международного инвестиционного права, работа Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) фокусируется на процессуальной стороне – реформировании механизмов разрешения инвестиционных споров. Этот двухуровневый подход отражает понимание того, что эффективная реформа системы МИС требует одновременных изменений как в материальных нормах, так и в процедурах их применения. Синергия этих инициатив потенциально способна привести к формированию более сбалансированного международного инвестиционного режима.
Особый интерес представляет сравнительный анализ региональных и национальных подходов к реформированию международного инвестиционного режима. Каждый из этих подходов отражает специфические интересы и приоритеты соответствующих государств и региональных группировок, а также их позиционирование в глобальной экономике. Сопоставление этих моделей позволяет выявить основные направления эволюции системы МИС и спрогнозировать возможные пути ее дальнейшего развития:
-
1) бразильская модель соглашений о сотрудничестве и содействии инвестициям (ACFIs), отказывающаяся от механизма ISDS в пользу межгосударственных процедур и предварительного предотвращения споров (Baumgartner, 2016: 155);
-
2) индийский модельный ДИД 2015 г., устанавливающий обязательное исчерпание внутренних средств правовой защиты и ограничивающий сферу применения ключевых стандартов защиты;
-
3) подход Европейского союза, предусматривающий создание постоянной двухуровневой системы разрешения инвестиционных споров и закрепляющий право государств на регулирование;
-
4) подход США, выраженный в соглашении USMCA, ограничивающий применение ISDS между США и Канадой и устанавливающий дополнительные требования для доступа к ISDS в отношениях с Мексикой.
Стоит отметить, что проведенное исследование международно-правовых основ инвестиционных соглашений демонстрирует динамичный характер развития данной отрасли права, находящейся в процессе трансформации. Современная система МИС сталкивается с серьезными вызовами, включая необходимость обеспечения баланса между защитой инвестиций и регуляторной автономией государств, интеграцию целей устойчивого развития, повышение легитимности механизмов разрешения споров. Многообразие подходов к реформированию МИС свидетельствует о поиске новой парадигмы регулирования международных инвестиционных отношений, которая позволила бы преодолеть недостатки существующей системы. Успех этого процесса будет зависеть от способности международного сообщества выработать консенсус относительно ключевых принципов регулирования, обеспечивающих как защиту законных интересов инвесторов, так и пространство для реализации государствами публичных политик в интересах общественного благосостояния.