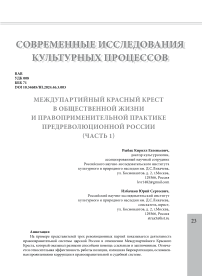Междупартийный Красный Крест в общественной жизни и правоприменительной практике предреволюционной России (часть 1)
Автор: Рыбак К.Е., Избачков Ю.С.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Современные исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
На примере представителей трех революционных партий показывается деятельность правоохранительной системы царской России в отношении Междупартийного Красного Креста, который оказывал разными способами помощь ссыльным и заключенным. Отмечается относительная эффективность работы полиции, излишняя бюрократизация, осложненная проявлениями коррупции в правоохранительной и судебной системе.
Междупартийный красный крест, полиция, охранное отделение, эсеры, московские высшие женские курсы, цубербиллер, иван филиппов, раиса головачева, николай бухгольц, людмила эрарская, нордштем (nordstrom), николай витка, лидия злобина, мария мароши, анна серебрякова (рещикова), елизавета дурново (эфрон), каторжанин, ссыльный
Короткий адрес: https://sciup.org/170206584
IDR: 170206584 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2024.46.3.003
Текст научной статьи Междупартийный Красный Крест в общественной жизни и правоприменительной практике предреволюционной России (часть 1)
Изучая развитие в России оккультных течений, мы обнаруживаем, что ряд активных участников этих движений имели революционное прошлое1. Не все из них указывали это в своих биографиях, особенно с учетом негативного отношения большевиков в 1920–1930-х годах к бывшим соратникам по революционной борьбе. Признаться в принадлежности к партии эсеров, анархистов, а тем более к меньшевикам-ликвидаторам при Советской власти было рискованным поступком. Обратив внимание на этот период в биографиях видных советских оккультистов, находим интересные факты кооперации революционных партий.
Особое внимание обращает на себя деятельность Междупартийного Красного Креста — полулегального объединения, ставящего задачей поддержку политических заключенных, ссыльных и каторжан без различия их партийной принадлежности.
Междупартийный Красный Крест — одна из организаций, оказывавших помощь ссыльным в Российской Империи. К числу этих организаций можно отнести несколько структур как дореволюционной, так и Советской России 1920–1930-х гг. (организация, созданная членами народнических кружков, «Общество Красного Креста Народной воли», «Группа помощи политическим узникам Шлиссельбурга», «Общество помощи освобожденным политическим», «Помощь политическим заключённым» и другие). Деятельность народовольческого
«Красного Креста» находилась под пристальным вниманием как правоохранительных органов Российской Империи, так и добровольного общества «Братства Священной дружины»2, которым была создана в Европе сыскная сеть для выявления адресов наиболее известных революционеров-эмигрантов и отслеживания сбора средств в упомянутый Красный Крест3. Междупартийный Красный Крест представлял собой непубличную организацию, цель которой вряд ли можно было расценивать как преступную, вместе с тем средства достижения этой цели, как будет показано ниже, иногда были противоправные. В целом же деятельность Междупартийного Красного Креста можно было расценивать и как противозаконную (ср. с определением противозаконного общества, изложенном в мнении Государственного Совета от 27 марта 1867 г.)4.
Отметим, что организации политического Красного Креста не имели отношения к Российскому Обществу Красного Креста. В 1907 году редакцией газеты «Парус»5 была опубликована заметка, в которой русское общество призывалось поддержать Московский комитет помощи политическим заключенным и ссыльным (Красный Крест) и указывался адрес для направления пожертвований — Москва, Нижняя Кисловка, лечебница доктора Н.М. Кишкина. Реакцией на эту статью стало заявление Главного управления Российского Общества Красного Креста, которое отмежевывалось от деятельности упомянутого комитета. «Имея в виду, что в составе Российского Общества Красного Креста комитета под вышеуказанным наименованием не существует и что поставленные в скобках слова «Красный Крест» направлены несомненно на эксплуатацию симпатий общества к святым и великим задачам красного креста, стоящего вне всякой политики, Главное Управление просило московское местное управление принять самые энергичные меры к прекращению в районе его действий подобных злоупотреблений и к преследованию лиц, оказавшихся в том виновными. Принимая затем во внимание, что настоящий случай является уже не первым, где нелегальные организации присваивают себе наименование Красного Креста, Главное Управление почитает своим долгом поставить о вышеизложенном в известность все свои органы и пригласить их неуклонно наблюдать за тем, чтоб в их районах злоупотребление именем или знаком Красного Креста отнюдь не была допускаемой и в случае, если бы таковое было обнаружено, то привле- кать провинившихся к законной ответственности в порядке частного обвинения»6.
В литературе деятельность Междупартийно-го Красного Креста отражена слабо. Это вполне объяснимо, с одной стороны нежеланием советских властей освещать деятельность идеологических конкурентов, а с другой стороны тем, что революционеры довольно успешно скрывали от полиции свою работу.
Революционеры осознавали необходимость поддержки соратников, которые были арестованы, осуждены и высланы властями7. Не считая значимости моральной поддержки, значение имели предоставление денег, литературы, передача сообщений близким людям, организация побегов и предоставление новых документов8.
Кроме того, поддержка заключенных имела еще и прагматический аспект. Арест членов тайной организации мог быть неожиданным как для арестованного, так и для других членов организации. Члены организации понимали, что сам арестованный может быть психологически подавлен и в таком состоянии выдать остальных. Революционер часто готов был пожертвовать собой, но не семьёй. Поэтому критически важно было оказать содействие его жене, детям и иждивенцам. Если арестант увидит пришедших на свидание родственников, которые лично сообщат о факте помощи со стороны членов организации, это могло придать ему уверенности и обезопасить других членов организации. Для этого нужно было иметь фонды, предназначенные для оказания помощи, а также налаженные контакты с присяжными поверенными, врачами, тюремными надзирателями, которые могли передать сооб- щение арестанту, если контакт с родственниками временно невозможен9.
Мы обнаруживаем упоминание Междупар-тийного Красного Креста в архивных делах о преследовании активистов революционного движения с конца 1900-х гг. При этом деятельность революционных партий в отношении помощи политическим заключенным, ссыльным и каторжанам не всегда была скоординированной. Долгое время таковая осуществлялась в рамках отдельных партий10. В разбираемом ниже деле присяжного поверенного И.И. Филиппова имеется свидетельство о существовании Междупартийного Красного Креста в 1909 году. Мы также располагаем сведениями о попытках восьми революционных организаций образовать в начале 1914 года «Московский городской комитет Межпартийного Красного Креста» как объединяющий орган11, а в 1916 году в очередной раз воссоздать эту структуру12.
Ниже представлены три дела о представителях трёх партий, оказывавших помощь политическим заключенным. У этих дел разный юридический исход, но схожее основание для начала уголовного преследования — агентурные данные, за которым следовали обыск и арест.
В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) есть фонд № 63 (Охранное отделение), содержащий, в том числе, отчеты о наружном наблюдении, в которых можно найти много неожиданных сведений. Другим важным источником о деятельности правоохранительной системы царской России в отношении Между-партийного Красного Креста в ГА РФ является фонд № 504 — Комиссия по обеспечению нового строя при Исполнительном комитете московских общественных организаций. Временное Правительство создало эту комиссию для разбора материалов Московского губернского жандармского управления и Московского охранного от-деления13.
В отношении московской структуры РСДРП, занимавшейся вопросами помощи политическим заключенным — «Кружка слушательниц М.В.Ж.К.14 по оказанию помощи политическим заключенным»15 — мы знаем о внедрении агентов охранного отделения, одним из которых являлась Мария Владимировна Мароши16. Другим агентом Московского охранного отделения на протяжении с середины 1880-х годов до 1907 года, который участвовал в деятельности политического Красного Креста, была выпускница М.В.Ж.К. близкая к социал-демократам Анна Егоровна Се-ребрякова17.
Соотнося между собой сведения, получен- ные из рапортов филеров и материалы уголовных дел, приходим к выводу о наличии у жандармов дополнительных источников сведений о работе революционных ячеек. Вероятнее всего, были завербованы члены партий, а также использовались сведения от агентов внутри профессиональных союзов. Также в уголовных делах есть признательные показания некоторых революционеров, раскрывающих подробности о своей преступной по отношению к существовавшему политическому режиму деятельности.
Разбирая конкретные дела, нами не преследуется цель отразить процессуальные тонкости в конкретном уголовном деле или полноту доказательственной базы, но предполагается оценить эффективность деятельности правоохранителей, соотнести ее с проблемами государственного управления в Российской Империи.
Первое дело касается Ольги Николаевны Цубербиллер (урожденной Губониной), в будущем известного советского математика и педагога, автора учебника «Задачи и упражнения по аналитической геометрии», выдержавшего более 30 изданий, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, кавалера орденов Ленина и «Знак Почета».
В открытых источниках отсутствуют упоминания о ее революционной деятельности, тем не менее, у нас есть основания полагать, что в молодости она могла быть связана с партией социалистов-революционеров (эсеров).
С февраля по апрель 1911 года полиция про- маша». Электронный ресурс. – [Режим доступа] .
Анна Егоровна – незаконнорожденная дочь Софьи Ивановны Жердинской и Степана Ивановича Рещи-кова (впоследствии удочерена отцом), была активным работником полулегального Красного креста помощи политическим заключенным, а в последствии Между-партийного Красного Креста, образованного в 1907 году. Эта работа позволяла сохранять Серебряковой беспартийность, при этом держа связь с революционными группами и партиями, в том числе с эсерами; устанавливать широкие связи с общественных кругах, в том числе с нелегальными и полулегальными элементами; иметь постоянное общение как с арестованными, так и их родственниками, что позволяло получать «материал, любопытный для розыска»; быть «заметным человеком на московском политическом горизонте»; иметь «может быть и ограниченную, пищу для конспиративных бесед с начальниками розыска» (см. Алексеев И.В. Провокатор Анна Серебрякова. М., 1932. С.24, 31, 141, 168).
вела операцию, направленную на ликвидацию Московской организации партии социалистов-революционеров. 30 марта 1911 года в доме Ольги Цубербиллер был произведен обыск, по результатам которого она и ее пасынок Владимир Владимирович Цубербиллер были арестованы18. В ходе обыска изъяты свертки с печатными изданиями партии эсеров, записные книжки, револьвер системы «Лефаше», записки, металлическая печать «Московской группы вспомоществования политическим заключенным»19.
Тем не менее, через несколько дней Ольга Николаевна Цубербиллер была отпущена без последствий. Немалую роль в ее освобождении, очевидно, сыграл ее пасынок Владимир Владимирович Цубербиллер, который взял на себя вину, а также тот факт, что она была вдовой товарища прокурора Московской Судебной Палаты20 Владимира Владимировича Цубербиллера21, скончавшегося в 1910 году.
Прокуроры не могли освободить от уголовной ответственности одновременно и сына, и вдову своего бывшего сослуживца, но, как полагаем, сделали все зависящее для прекращения дела в отношении последней.
Судебное дело не сохранилось. В Государственном архиве Российской Федерации остались отдельные документы жандармов: протоколы обыска в доме Цубербиллеров и некоторые до-просы22. Однако в Центральном государственном архиве Москвы обнаружено наблюдательное производство прокуратуры по этому делу, включая проект обвинительного акта, из которого можно составить полное представление о деле23.
Обыскам у членов Московской организации партии эсеров предшествовало наружное наблюдение в течение полутора месяцев за членами группы24. Сыщикам удалось выделить небольшую группу молодых людей, которые вели агитационную работу среди членов профессионального союза портных, портних и скорняков. Помимо Владимира Цубербиллера в группу входили шведский подданный Эмиль Нордштрем и сын либавского гражданина Николай Витка25. Все трое на тот момент были студентами 18–19 лет26.
Основные доказательства преступной деятельности были добыты в ходе обыска на квартире Ольги Цубербиллер, а также по месту жительства Эмиля Нордштрема. На основе этих материалов товарищ прокурора Московской Судебной Палаты выстроил обвинение в принадлежности к Московской группе партии социалистов-революционеров и организации партийной библиотеки означенного сообщества. В обвинительном акте прокурор подробно описал вредный характер найденной у арестованных литературы, а также участие каждого из них в преступной деятельности.
Прокурор не обладал всей полнотой информации о деятельности группы. Но он, как выражаются юристы, «собрал состав» из имеющихся фрагментов. Получалось, что главную роль в группе играл Владимир Цубербиллер27. Он хранил основную часть нелегальной литературы, в его записной книжке были найдены заметки, посвященные выступлению на собрании профессионального союза портных, портних и скорняков, свидетели подтвердили факт его выступления, в котором использовались тезисы из записной книжки. В этой книжке также был каталог нелегальной литературы, составленный рукой Цубербиллера, Нордштрема и неустановленного лица. Николай Витка представлялся как начинающий агитатор, который, как отмечали Нордштрем и Цубербиллер в переписке, делал успехи на этом поприще28. При этом Ольга Цу-
«Ветчина» (ГА РФ Ф.63. Оп. 45. Д.297. Л. 28-29). Клички могут повторяться у нескольких человек. Например, кличка «Сладкий» была также у Алексея Максимовича Пешкова (Максима Горького) (ГА РФ. Ф.111. Оп.1. Д.2712 (1914), Д.2712а (1915), Д.2712б (1905)). Из рапортов наружного наблюдения мы также узнаем о контактах эсера «Сладкого» с Николаем Ивановичем Бухариным (ГА РФ. Ф.63. Оп.44. Д.1392. Л.1, 2об.–3об.). Исследуя биографии обвиняемых, узнаем, что в дальнейшем Э.Нордштем, Вл.Цубербиллер и Н.Витка перешли в РСДРП.
бербиллер решительно выводилась за рамки уголовного дела. На допросе она заявила следствию, что «отобранная у меня нелегальная литература разных наименований партии социалистов-революционеров, брошюры, изданные той же партией, а также подлежащие аресту по постановлениям судебных установлений, металлическая печать «Московской группы вспомоществования политическим заключенным», рукописи по социальному вопросу и частные письма в переплете от альбома для марок — мне не принадлежат; все это было принесено мне на хранение лицом, назвать которого я не желаю возможным. Все это было принесено мне в бумаге в виде свертка и содержимое этого свертка я узнала только при обыске, сама же раньше не смотрела и что именно мне принесено — не спрашивала. Сверток был принесен в то время, когда я была дома и я полагала, что в нем какие-нибудь газеты. Я к подпольным организациям вообще, к «Московской группе партии социалистов-революционеров» в частности, не принадлежала и не принадлежу, не принадлежу также и к той группе, печать которой обнаружена в принесенном мне свертке. Владимир Цубербиллер посещал меня часто, летом он жил на даче вместе со мною в Смоленской губернии, Рославльского уезда, с. Трехбратское у Григория Александровича Пенского. Владимир Цубербил-лер, как и остальные дети, приходят ко мне, товарищества их у меня с ними не было»29.
Если рассмотреть доказательства причастности Ольги Цубербиллер к деятельности этой группы, то на наш взгляд, таковых достаточно: у нее дома найдены нелегальная литература, печать «Московской группы вспомоществования политическим заключенным» и револьвер. Кроме того, агенты наружного наблюдения зафиксировали факт ее посещения вместе с пасынком30 места жительства Эмиля Нордштрема и перенос свертков, аналогичных тем, в которых была найдена нелегальная литература.
Однако Владимир Цубербиллер дал показания, которые позволили поставить под сомнение причастность Ольги Цубербиллер: «... [были предъявлены поименованные тетради из числа вещей, отобранных вместе с нелегальной лите- ратурой и печатью у Ольги Цубербиллер]. Эти тетради были мною принесены вместе с нелегальной литературой партии социалистов-революционеров, брошюрами и печатью «Московская группа вспомоществования политическим заключенным» к моей мачехе Ольге Николаевне Цубербиллер на хранение, причем содержание свертка она не знала. Принес я все это перед студенческим волнением, точно время не припомню [была предъявлена нелегальная литература, брошюры, печать и рукописи, отобранные по обыску у Ольги Цубербиллер]. Откуда все это получено — сказать не могу.... Печать «Московская группа вспомоществования политическим заключенным» мне передана на хранение, кем передана — сказать не могу. К «Московской группе партии социалистов-революционеров» я не принадлежу и о существовании такой группы первый раз слышу. Группа, печать которой была мне передана и о которой только что говорилось — в настоящее время не существует, она распалась, что я знаю по слухам. От дальнейших показаний отказываюсь»31.
Если бы не это признание, то по существовавшим в то время стандартам доказывания Ольгу Цубербиллер было можно привлечь к суду. Однако показания ее пасынка коренным образом меняли ситуацию32. Что касается отрицания Владимиром Цубербиллером причастности к деятельности эсеров — это не соответствует действительности. О том, что он действительно принимал участие в деятельности Московского отделения партии социалистов-революционеров, узнаем из сведений, которые он и его товарищи предоставляли при поступлении на работу и учебу уже после револю-ции33. Соответственно, имеются сомнения в прав-
31 ГА РФ. Ф.63 Оп.18 (1911 год). Д.569.
-
32 У Ольги Цубербиллер были хорошие отношения с детьми своего мужа. Это видно из переписки с падчерицей Анной Владимировной Булгаковой (Российский государственный архив литературы и искусства. Ф.2226. Оп.1. Д.1579. Л.13, 25). Также стоит отметить, что млад- 29 ший пасынок - Виталий Цубербиллер также не выдал мачеху, но уже в советское время - на допросе в ОГПУ в 1932 году (ГА РФ. Ф.10035. Оп.1. Д.11803 (делопроизводственный № П-12492)).
-
33 В советское время Владимир Цубербиллер работал в Московском геодезическом институте, занимался градостроительным планированием в Средней Азии и Сибири. В анкете для Экономического института
дивости его слов о прекращении деятельности группы помощи политическим заключенным.
Что же касается фактов совместного посещения Цубербиллерами другого участника группы34, то товарищ прокурора не стал упоминать в обвинительном акте этот факт.
В целом, возможность игнорирования собранных доказательств была характерной чертой прокуратуры в царской России. Прокурор занимал ключевую позицию в схеме организации уголовного преследования. С одной стороны, только он мог решать, какие обвинения будут им поддерживаться в суде и, соответственно, какие дела будут им направляться на рассмотрение суда. С другой стороны, прокурор надзирал за деятельностью судебных следователей, направлял дела на доследование, а также имел доступ (хотя и не полный) к информации о деятельности полиции.
Позиция между судом, с одной стороны, полицией и судебными следователями, с другой стороны, позволяла прокуратуре контролировать процесс. Это положение закрепляло отсутствие эффективного контроля со стороны суда35.
Красной профессуры при ЦИК СССР он сообщил, что в 1911–1912 годах отбывал 20 месяцев в тюрьме за распространение нелегальной литературы, без указания партийной принадлежности (ГА РФ. Ф.Р5144. Оп.2. Д.3616. Л.16–17). Но в личном деле квалификационной комиссии НКТП указано: «В революционном движении с 1912 г. C 1914 г. присоединился к РСДРП интернационалистов» (Российский государственный архив экономики. Ф.7297. Оп.9. Д.4626. Л.8). Однако его товарищи были более откровенны. Из биографии Николая Витка знаем, что в 1911 году он примыкал к эсерам. В уголовном деле Эмиля Карловича Нордштрема по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре (дело антисоветской террористической организации ТКП «Крестьянская Россия», в отношении него дело было прекращено военной прокуратурой после двух лет следствия и предварительного заключения с апреля 1938 года по март 1940 года) находим: «с 1910 по 1912 примкнул к эсерам, с 1912 по 1914 к социал-демократам» (ГА РФ. Ф.10035. Оп.1. Д.П-34456 П-34456 Л.9об. п.15).
Нельзя забывать, что прокуратура, как и судебные следователи, были интегрированы в систему судебных учреждений дореволюционной России. Анализируя связанные уголовные дела, приходим к представлению о том, что когда дело доходило до скандалов, связанных с деятельностью самих судов, будь то коррупция или халатность, прокуратура и судьи старались прекратить движение таких уголовных дел36. Судьи более нижестоящих судов могли привлекаться к ответственности, но как только дело касалось репутации окружных судов, дела дальше не двигались.
Пользуясь своим доминирующим положением, в деле Цубербиллера-Нордштрема-Витка прокуратура приняла ряд странных решений с точки зрения объективного расследования преступлений.
При достаточности обвинений в отношении Владимира Цубербиллера и Эмиля Нордштрема в деле оставалось несколько неясных моментов, которые прокуратура относила на деятельность неустановленного лица, входившего в ближний круг Владимира Цубербиллера. Основная улика, позволившая прокуратуре вменить обвиняемым не просто хранение нелегальной литературы, а участие в антиправительственной организации, была записная книжка, в которой содержались заметки Владимира Цубербиллера, а также каталог библиотеки революционных изданий. Кроме записей, выполненных Цубербиллером и Норд-шремом, в записной книжке были записи, выполненные неизвестным лицом, но не Витка. Проверять, были ли эти записи выполнены рукой Ольги Цубербиллер, по непонятной причине судебные следователи не стали, а прокуратура таких указаний им не дала.
При этом из характера деятельности группы следовало, что это неустановленное лицо было достаточно организованным и образованным, обладало навыками работы с библиотечными фондами. Искать человека, подходящего под такое описание, тоже не стали.
Вместе с тем известно, что Ольга Николаевна Цубербиллер в 1904–1907 годах была библиотекарем «библиотеки кружка математической литературы»37. Мы не можем сказать наверняка, что она была причастна к деятельности партии эсеров по распространению нелегальной литературы в то время38. Однако, отметим, что революционные партии не стеснялись распространять свою литературу через легальные книжные магазины и библиотеки39.
Также вопросы вызывает револьвер системы «Лефаше», изъятый по месту жительства Ольги Цубербиллер, который мог принадлежать как ей, так и ее мужу. Револьвер быстро перестал фигурировать в материалах дела, при том, что в других делах эсеров мы видим, что судебные следователи придавали большое значение хранению оружия.
Еще одно обстоятельство определенно указывает на старания прокуратуры исключить причастность вдовы своего коллеги к истории с обнаруженной нелегальной литературой. 19 сентября 1911 года, уже после того, как следствие по делу было закончено, и обвиняемые ждали суда, в адрес прокуратуры поступил запрос начальника Московского губернского жандармского управления с просьбой предоставить для анализа почерка имеющуюся в деле записку, написанную некой Лидой, обнаруженную при обыске в доме Ольги Цубербиллер40.
Жандармов не случайно интересовала эта записка. В это время расследовалось большое дело о другой группе членов партии эсеров, в которой активное участие принимала дворянка Лидия Николаевна Злобина, известная револю-ционерка41.
Если бы посредством этой записки была установлена связь Злобиной и Цубербиллер, то признательным показаниям ее пасынка могла быть дана другая правовая оценка.
Однако ни в одном из дел не находим, чтобы указанная записка была направлена жандармам для анализа. Вероятно, прокуратура проигнорировала этот запрос по тем же мотивам, что и другие доказательства, указывающие на причастность Ольги Цубербиллер к этой группе.
В результате рассмотрения дела Владимир Цу-бербиллер был приговорен к одному году тюрьмы, а Нордштрем и Витка получили по 8 месяцев за-ключения42. Это нехарактерно мягкий приговор за государственное преступление с учетом затраченных ресурсов сыскной полиции и судебной системы.
В этом деле обнаруживается незначительный след деятельности политического Красного Креста — нахождение металлической печати «Московская группа вспомоществования политическим заключенным». Однако с учетом всех обстоятельств дела мы понимаем, что эта печать оказалась в доме Ольги Цубербиллер не случайно, но полиция и прокуратура не стали развивать это направление расследования.
Список литературы Междупартийный Красный Крест в общественной жизни и правоприменительной практике предреволюционной России (часть 1)
- Алексеев И.В. Провокатор Анна Серебрякова. М., 1932.
- Членов С.Б. Московская охранка и ее секретные сотрудники. По данным Комиссии по обеспечению нового строя. М., 1919.
- Шаламов А.Ю. Московская полиция. 1905- 1907. 2022.