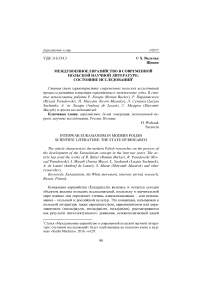Междувоенное евразийство в современной польской научной литературе: состояние исследований
Автор: Вальчак Хенрик
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья дает характеристику современных польских исследований процесса развития концепции евразийства в межвоенные годы. В статье использованы работы Р. Бэкера (Roman Backer), Р. Парадовского (Ryszad Paradowski), И. Массаки (Iworn Massako), Л. Суханка (Lucjan Suchamk), А. де Лазари (Andrzej de Lazari), С. Мазурка (Slawomir Mazurk) и других исследователей.
Евразийство, белая эмиграция, межвоенный период, научные исследования, Россия, польша
Короткий адрес: https://sciup.org/148317948
IDR: 148317948 | УДК: 316.334.3
Текст научной статьи Междувоенное евразийство в современной польской научной литературе: состояние исследований
Концепция евразийства (Eurazjatyzm) являлась и остается сегодня объектом анализа польских исследователей, поскольку в значительной мере именно она определяет степень взаимопонимания – или непонимания – польской и российской культур. Эта концепция, называемая в польской литературе также евроазиатством, евроазианизмом или евра-зианизмом (euroazjatyzm, euroazjanizm, eurazjanizm), рассматривается как результат интеллектуального движения, основополагающей идеей которого было обращение к Востоку как к источнику формирования российской цивилизации. Евразия, определяемая как главное пространство развития этой цивилизации, отличающейся от Запада и ему противопоставленной, рассматривалась, прежде всего, с перспективы культурно-цивилизационной. Это движение, будучи в своей основе интеллектуальным, стремящимся обосновать цивилизационную обособленность России от якобы находящейся в состоянии распада Западной Европы, на разных этапах сплачивало ряд выдающихся представителей русской эмиграционной элиты и развивалось в строго политическом направлении. Эта политическая обусловленность, как и попытки найти общие корни с большевизмом и установить контакты с советской властью, стала причиной развития кризиса внутри евразийского движения и ухода из движения его основателей. Все это привело к постепенной атрофии и распаду движения.
В польской историографии отражена связь зарождения движения евразийства с выпуском в августе 1921 г. собрания статей под общим названием «Исход к Востоку». Новое интеллектуальное течение заинтересовало профессора М. Здеховского (Marian Zdziechowski), который в марте 1922 г. прочитал в Вильнюсе доклад на эту тему. Здеховский объяснял обращение евразийцев на Восток и их антиокcидентализм (антизападничество) непониманием «угрозы разрушения и уничтожения, которые нес с собой ликующий большевизм», а также европейским нежеланием с ним бороться. «По мнению евразийцев, – пишет вильнюсский профессор, – российская тяга к Востоку была обусловлена еще и примесью к национальному русскому характеру тюркского элемента». Эта обращенность на Восток, длящаяся со времен Средневековья, была пресечена Петром I, который стремился европеизировать Россию, что в свою очередь стало причиной ее падения. Возрождение же страны евразийцы видели в восстановлении и развитии православного религиозного духа, а также в обращении в сторону Азии. Здехов-ский показал позитивные аспекты нового направления, которое, по его словам, «не мечтает ни о завоевании Азии, ни о марше на Европу». А вследствие своего антибольшевистского характера, является «натуральным союзником Польши» [1].
Очередным польским исследователем, который занимался вопросом евразийства, был М. Уздовский (Marian Uzdowski) – журналист и публицист, сторонник маршала Пилсудского. Уздовский подчеркивал, что евразийцы относились к России как к территории автономной и с географической, и с исторической точек зрения, как к территории, пропитанной однородной евразийской культурой. Евразийская культура сформировалась под влиянием византийской культуры и степной цивилизации, способствуя тем самым «становлению великой российской государственности». Петр I приостановил развитие культуры евразийской и способствовал ее переориентации на европейскую. Евразийцы в свою очередь, по словам Уздовского, отвергают европейскую культуру из-за ее материалистической природы. В марксизме они видели проявление западного материализма, таким же образом относились и к большевизму, хотя и отмечали в некоторых действиях советской власти «творческие, позитивные и ценные моменты». К таковым можно отнести советское устройство, которое, как они полагали, было устройством не в полной мере реализованной идеократии. При этом евразийцы не исключали возможности в перспективе модифицировать и приспособить советский режим к полной идеократии, которая впоследствии должна была бы стать системной основой евразийского государства. Подчеркивание евразийцами монгольских элементов как основы устройства Московской Руси было, по мнению Уздовского, результатом желания «переместить историческую ось России на Восток, сохранить старую и установить новую, более глубокую и современную власть над завоеванными народами». В связи с постулатами присоединения к России восточных рубежей Речи Посполитой Польши и Восточной части Малой Польши, публицист расценил отношение движения к Польше как негативное, что также касается и перспектив [2].
Анализ литературы показывает, что в период между двумя мировыми войнами евразийскому движению в Польше не уделялось большого внимания, вероятно, по причине его слабости и постепенной деградации. В период же распада Советского Союза внимание к проблеме евразийского движения начало возрастать. Растущая популярность этого движения обратила на себя внимание польских исследователей. Наиболее обстоятельный анализ евразийства в современной польской литературе содержится в трудах Р. Бэкера (Ryszard Backer), Р. Парадовского (Ryszard Paradowski) и И. Массаки (Iwona Massaka).
Наиболее тщательную и многоаспектную характеристику межвоенного евразийства дает в своей монографии Р. Бэкер. Написанный им портрет движения представлен на фоне истории русской эмиграции и сформированных ею общественных и политических организаций. Предметом анализа стали идеи евразийцев, рассматриваемые в категориях географического детерминизма и геополитики. Показана также специфика евразийского национализма, при этом особо выделяется украинский вопрос. Много места в данном исследовании занимает анализ проблемы отношений между личностью и обществом.
Бэкер представлял евразийцев как создателей концепции человека с коллективным характером – больше чем просто коллективиста. В ее свете анализировал он взгляды Л. Карсавина, автора теории «симфонической личности». Бэкер пришел к выводу, что в евразийстве можно говорить о безусловном подчинении человека коллективу только в публичной сфере; в то время как в сфере частной считалось, что человек должен быть «хорошим хозяином», самостоятельно выполняющим работу, что требовало создания «пространства внутренней свободы».
Бэкер попытался также определить место евразийства в религиозном контексте, ставя его где-то между православием и язычеством. Он так и не пришел к окончательному решению, что не удивительно, учитывая весь собранный ученым исходный материал по данному вопросу. В своих исследованиях Бэкер столкнулся с евразийским видением истории России и отношением евразийцев к советскому государству, отношением сложноорганизованным, включающим варианты от враждебного противопоставления до стремления к сотрудничеству и кооперации. В книге осуществляется глубокий анализ созданной представителями движения концепции идеальной государственной системы. Также автор сосредоточился на оценке и интерпретации евразийства в польской литературе времен II Речи Посполитой. Завершая свои исследования, Бэкер выразил свой взгляд на вопрос, касающийся уровня тоталитарности евразийской доктрины. По его мнению, ее место было «среди авторитарных, трибунальных, традиционно консервативных и тоталитарных структур мышления, со все большей склонностью к последней, хотя и не переходящих черту непосредственной к ней близости» [3].
Некоторые фрагменты своей монографии в разных ее версиях автор опубликовал в различных журналах и сборниках статей [4]. Одна из его работ была опубликована в сборнике «Россия в глазах славянского мира». Ученый сформулировал в ней свое, польское, понимание понятия Евразии, сосредотачиваясь на его идеологической, политической, научной и географической конотации. Отдельно он подчеркнул важность первой, определяя понятие «Евразия» как «специфического культурного сообщества восточнославянских и угрофинских народов, проживающих на территории, простирающейся от Тихого Океана до натуральных восточных границ романно-германского суперэтноса» [11].
Другой современный польский исследователь Р. Парадовский в большом фрагменте своей монографии, посвященной вопросам евразийской идеологии, рассматривает ее зарождение, углубление и функционирование в межвоенный период. Уже во вступительной части автор дал характеристику основных принципов «первого евразийства», используя при этом труды Н. Трубецкого, П. Савицкого, Н. Алексеева и
Л. Карсавина. Формирование мышления, как и самого сообщества идеологов евразийства, было представлено в первой части его публикации. Парадовский обратил внимание на то, что идея российской обособленности появилась уже в работах мыслителей XIX – начала XX вв., среди которых стоит отдельно отметить Н. Данилевского, Н. Страхова, К. Леонтьева, В. Титова, А. Краевского и А. Топоркова. Сама же концепция России–Евразии появилась в 1921 г. в Софии, в период, когда та принимала очередную волну российских эмигрантов после поражения генерала Врангеля. В тот же период над процессом создания фундамента евразийства работали вышеупомянутые Н. Трубецкой – лингвист, этнограф и философ, П. Савицкий – географ и экономист, Г. Флоров-ский – историк культуры и православный теолог, П. Сувчинский – философ и музыколог, а также А. Ливен – православный священнослужитель. В последующие годы к ним присоединились философ Л. Карсавин и историк Г. Вернадский, писатель и литературный критик Д. Свя-тополк-Мирский, теолог В. Ильин и С. Эфрон.
Автор монографии поставил задачу определить понятие идеократии, воспринимаемой евразийцами как идеология, противопоставленной большевизму. Особым случаем идеократии, по их мнению, была коммунистическая идея, которая, однако, имела фундаментальные дефекты и, по сути, была антиидеей и злом. Парадовский подчеркнул, что евразийство вырастало из культуры эллинской и византийской, которая являлась важным фактором культурно-географической обособленности России как субконтинента, соединяющего в себе элементы культуры европейской и азиатской. Он обращает внимание на антиномию России и Европы, подчеркивая антиевропоцентризм евразийцев и их отрицание европейского мифа об универсальном прогрессе. Анализируется влияние тюркскости на русское самосознание и его расщепление, роль православия в евразийской идее и подход к институции католического костела и католицизму как таковому [12]. Стоит добавить, что некоторые фрагменты своей монографии (в версиях более или менее сокращенных) Парадовский разместил в журналах [13]. Его можно отнести и к числу авторов краткой характеристики доктрины евразийства [14].
Мировоззрение евразийцев также стало объектом научного анализа И. Массаки. В ее монографии «Евразийство. Из опыта российского мессианизма» евразийство предстает как результат российского антизападничества – антиоксидентализма и мессианизма. Свои рассуждения она начинает с попытки ввести периодизацию движения. Первые пять лет его существования занял процесс формирования его идейного фундамента, а также относительно гармоничного сотрудничества его основателей. В 1925 г. начался период интриг, споров и взаимных обвине- ний. Три года спустя движение ослабевает, теряет значимость и начинает распадаться. Начиная с 1938 г., оно переходит в состояние «гибернации» с тем, чтобы возродиться снова в период распада Советского Союза в 1991 г.
Массака создала портрет психологических основ евразийства, сосредотачиваясь при этом на анализе творчества Н. Трубецкого. Она также обратила внимание на идейный базис движения, указывая при этом на то, что сравнение Москвы с Третьим Римом – плод теорий русских романтиков, славянофилов – Н. Данилевского, А. Григорьева, К. Леонтьева, Ф. Достоевского и «скифского» движения. Проанализировав главные идеи евразийства, Массака также выделяет выдвигаемую представителями этого движения концепцию мистического единства Евразии, ее обособленности и территориальной самостоятельности с Россией в центре; акцентирует значимость, приписываемую евразийцами концепции азиатского происхождения России и присутствию азиатского элемента в евразийской культуре, которая, по их мнению, представляет собой самобытное и оригинальное качество. В евразийстве татаро-монгольское нашествие оценивается не как катаклизм и беда, а как вполне удачное для России обстоятельство, поскольку оно способствовало задержанию экспансии латинского Запада. Свою «азиат-скость» евразийцы обосновали на географическом (и климатическом), экономическом, политическом, археологическом, социально-психологическом, культурологическом, религиоведческом и этнографическом уровнях. Среди других ключевых идей евразийства Массака обращает внимание на концепцию идеократического государства, изоляционизм, антиоксидентализм и православие. Много места она посвящает анализу концепции Л. Карсавина, Л. Гумилева и А. Дугина [15]. Стоит добавить, что перед изданием монографии автор опубликовала три статьи, касающиеся идейной сферы евразийства, которые с небольшими изменениями были включены в главный текст монографии [16]. В 1996 г. был опубликован важный очерк, посвященный идейным протопластам, создателям и главным элементам доктрины евразийства [18]. Наряду с представленными авторами – наиболее плодотворными в области исследований рассматриваемого движения – евразийством занимаются и другие польские исследователи. М. Зубер (Malgorzata Zuber) посвятила первую часть своей монографии, описывающей влияние евразийства на исторические труды Л. Гумилева, характеристике движения в целом. Основными источниками евразийства она называет славянофильство и антиоксидентализм, концепцию соборности А. Хомякова (отсылающую к вопросам интегристского православного национализма), культурно- исторические типы Данилевского, привносящие элементы этноцентрические и расистские, азиатское и византийское влияние, а также концепцию России как «Империи Востока» Ф. Тютчева, которая в свою очередь тесно связана с идеей «Москвы – Третьего Рима».
Зубер представила также фундаментальные идеи евразийства, к которым причислила евразийскую культурологию, историографию евразийцев, в особенности – видение и оценку истории России–Евразии. Во фрагменте посвященном историографии автор предприняла анализ роли географического положения в процессе формирования евразийства. Большой фрагмент монографии она отвела сравнению концепции евразийцев и коммунистов, подчеркивая, что отношение первых ко вторым было сложным и неоднозначным [19].
Общую характеристику евразийства, касающуюся не только межвоенного периода, но также и событий после 1991 г., можно встретить в работах Л. Суханка, А. де Лазари, П. Эберхардта (Piotr Eberhardt), А. Стахурки-Геллер (Aneta Stachurka-Geller), Я. Миколайца и З. Орбика (Jaroslaw Mikolajec i Zbigniew Orbik), Д. Данилькевич (Danuta Danilkie-wicz), П. Вайнгертнера (Piotr Waingertner), А. Кузя и Д. Шведа (Adam Kuz i Dominik Szwed) [20]. Многие статьи сконцентрированы на историософии, идеологии и социально-политической мысли движения [21]. Характеристика воззрений выдающихся представителей евразийства – Н. Трубецкого и П. Савицкого – появляется также в текстах С. Мазурка, Д. Романовского и Я. Потульского (Jakub Po-tulski) [22]. Стоит также напомнить о таких ключевых словах как Евразия и евразийство, опубликованных в словарных издательствах, предлагающих – в синтезированной форме – определение движения евразийства [23].
За последние двадцать лет польские научные исследования, посвященные евразийству, значительно расширились. Польский межвоенный период был тщательно проанализирован. Научный интерес стал постепенно переориентироваться на современную версию движения, непосредственно связанного с государственной политикой России. Появились новые проблемы, дающие повод для беспокойства и служащие одновременно толчком для новых научных исследований. Присутствующие в идеологии современного евразийства элементы радикального национализма и империального экспансионизма пропитывают современную заграничную политику России. Для нас, поляков, исторически опытных в общении с восточным соседом, это очень плохой знак.
Список литературы Междувоенное евразийство в современной польской научной литературе: состояние исследований
- Zdziechowski М. Eurazjatyzm rosyjski: wybór pism. Kraków, 1993. Pp. 385-403. (In Polish)
- Uzdowski М. Eurazjanizm. Nowa idea w rosyjskim ruchu przeciwkomunistycznym. Warszawa, 1928. Pp. 3-35. (In Polish)
- Bäcker R. Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu? Łódź, 2000. Pp. 5-266. (In Polish)
- Bäcker R. Eurazjatycka wizja idealnego ustroju politycznego. Zeszyty Naukowe WSHE. Nauki Humanistyczne i Społeczne. Włocławek, 2000. Pp. 57-92. (In Polish)
- Bäcker R. Eurazjatyzm: zarys dziejów organizacyjnych i ewolucji myśli politycznej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze, 1999. V. 4. Pp. 21-40. (In Polish)