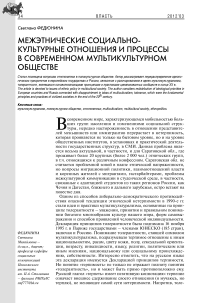Межэтнические социально-культурные отношения и процессы в современном мультикультурном обществе
Автор: Федюнина Светлана Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам этнополитики в поликультурном обществе. Автор рассматривает перераспределение идеологических приоритетов в европейских государствах и России, связанных с разочарованием в идеях мультикультурализма, толерантности, являвшихся основополагающими принципами и практиками цивилизованных сообществ в конце ХХ в.
Мультикультурализм, поликультурное общество, этнополитика
Короткий адрес: https://sciup.org/170166295
IDR: 170166295
Текст научной статьи Межэтнические социально-культурные отношения и процессы в современном мультикультурном обществе
В современном мире, характеризующемся мобильностью больших групп населения и изменениями социальной структуры, нередко настороженность в отношении представителей меньшинств или иммигрантов перерастает в нетерпимость, которая проявляется не только на бытовом уровне, но и на уровне общественных институтов, в установках и практической деятельности государственных структур, в СМИ. Данная проблема является весьма актуальной, в частности, и для Саратовской обл., где проживает более 20 крупных (более 2 000 чел.) этнических групп, в т.ч. относящихся к различным конфессиям. Саратовская обл. не считается проблемной зоной в плане этнической напряженности, но вопросы миграционной политики, взаимоотношений власти и коренных жителей с мигрантами, гастарбайтерами, проблемы межкультурной коммуникации в студенческой среде, в частности, связанные с адаптацией студентов из таких регионов России, как Чечня и Дагестан, ближнего и дальнего зарубежья, остро встают на повестке дня.
Одним из способов либерально-демократического противодействия опасной тенденции этнической нетерпимости в 1990-е гг. стали идеи и практики мультикультурализма, основанные на принципе толерантности – уважении, принятии и правильном понимании богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Декларация принципов толерантности была подписана 16 ноября 1995 г. в Париже государствами – членами ЮНЕСКО (185 стран), включая и Россию. Понимание толерантности, ставшей символом мультикультурализма, подразумевало терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, инвалидности, языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному или социальному происхождению, собственности. Интересно отметить, что на русском языке эта декларация именуется Декларацией принципов терпимости. Но понятие «терпимость» не только не отражает полноту понятия «толерантность», но и может быть прямо противоположно ему. Русский глагол «терпеть» имеет негативную коннотацию: терпение означает внешнее сдерживание своего отношения (я мучаюсь, но терплю), не меняющее самой сути нетерпимости. Напротив, толе- рантность толкуется в Декларации как активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека.
Изменение идеологических приоритетов европейской государственной политики в конце ХХ в. и расширение возможностей жизненного выбора людей по-новому формировали повестку дня в сфере культурной индустрии и духовной составляющей повседневной жизни людей. Был предложен ряд моделей мультикультурализма. Так, Ч. Кукатас выделяет две модели мультикультурализма – «жесткую» и «мягкую»1. «Мягкая» модель отличается тем, что степень ассимиляции определяется желанием и способностью каждого отдельного индивида разделять или не разделять образ жизни большинства, при этом принимающая сторона спокойно относится к тому, что меньшинства остаются не интегрированными. «Жесткий» мультикультуралистский подход заключается в том, что общество должно принимать активные меры для обеспечения меньшинствам не только полноценного участия в жизни общества, но и максимальных возможностей для сохранения особой идентичности и традиций. К разнообразию следует не просто относиться толерантно – его нужно укреплять, поощрять и поддерживать как финансовыми средствами (при необходимости), так и путем предоставления культурным меньшинствам особых прав. О. Арбша выделяет эгалитарную и доминантную модели мультикультурализма2. Эгалитарная модель рассматривается им на примере стран Евросоюза, Канады и ряда других государств, причем наряду с положительными эффектами констатируется ее дезинтегрирующий потенциал. Доминантная модель, легитимирующая неизбежность и полезность неравенства и дискриминации, обсуждается вне конкретной политической и социокультурной практики. Как нам представляется, эта модель близка к ортодоксальной альтернативе мультикультурализма и толерантности – концепции метакультуры, или метакультурного диалога3, под которым подразумевается выстраивание отношений с позиции главенства одной культуры над другой.
Вместе с тем на фоне процессов автономизации территорий и фрагментации национальных государств роль мультикультурализма как интегрирующей политики и практики, способной препятствовать процессам разобщения и форсировать развитие в странах с переходной экономикой, с начала 90-х гг. стала подвергаться сомнению. В 2010–2011 гг. друг за другом лидеры трех ведущих европейских государств – А. Меркель, Д. Камерон и Н. Саркози – заявили о крахе политики мультикультурализма. Но, как справедливо указывает один из ведущих специалистов в области мультикультурализма А. Малахов, трактовка термина вызывает массу недоразумений. Термин неоднозначен и используется, как минимум, в двух значениях. «Вещь первая – это факт культурного многообразия, будь то этническое, конфессиональное, жизненностилевое разнообразие, и будь оно обусловлено исторической разнородностью общества или миграцией; и вещь вторая – это способ обращения с этим фактом, с этой реальностью»4. Никто не ставит под сомнение наличие культурного многообразия как реалии современной жизни. Что касается второго момента, то В. Малахов утверждает: «У нас в России есть характерное представление, что эта политика была мотивирована неким чрезмерным гуманизмом или либеральным благо -душием». В своей публичной лекции, прочитанной 22 декабря 2011 г. в клубе ПирОГИ на Сретенке (ZaVtra) в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру», В. Малахов убедительно доказывает, что политика и практики мультикультурализма были мотивированы вполне рационально-бюрократически, и разъ ясняет, поч ему в начале нулевых годов
Европа сделала поворот к ассимиляцио -низму События всем хорошо известны: теракты, рост влияния ультраправых сил, нежелание ортодоксального мусульман -ского населения принимать культурные традиции принимающей стороны и т.д. и т.п. Поворот часто называют интеграцией, хотя, как отмечает В. Малахов, цити-руя Зигмунда Баумана, интеграция — это политкорректное имя для ассимиляции1.
Общеизвестно, что этнокультурный облик России отличается большим разно -образием, которое обусловлено обширной территорией, природно климатическим разнообразием, особенностями истории государства и его политики в отношении многокультурного населения. Мы при соединяемся к мнению Л. Дробижевой о том, что, в отличие от Канады, США и ряда европейских стран, наше государ ство исторически сложилось как поли этническое и этническое «небольшин-ство» нашей страны — это, прежде всего, народы, живущие преимущественно на своей территории2. Для такого государ-ства, как Россия, проблема интеграции формулируется значительно шире, чем во -прос включения в сообщество мигрантов. Принимающим обществам в рамках инте -грационного процесса следует решать в т.ч. такие вопросы: «должна ли новая идентич-ность мигрантов совпадать с общегосудар ственной идентичностью принимающего общества, каковы пределы допустимых совмещений и расхождений гражданской, локальной, этнической идентичностей и каково должно быть отношение общества к тем, кто сохраняет элементы своей ста -рой идентичности»3. В связи с этим важно учитывать эволюцию политики России как полиэтнического государства.
В СССР «национальный вопрос» был отличительным признаком советской политики. Идеология находила свое выра-жение в культурных практиках, отражаясь и распространяясь через СМИ и массовые жанры искусства. Вопросы национальной политики были неотъемлемой частью иде-ологии советского периода. Как указывает
В. Тишков, «в СССР “многонациональ-ность” и “дружба народов” были своего рода визитными карточками страны, а в реальной политике советского времени “национальная форма социалистической культуры” была в частичном смысле той же самой политикой мультикультура лизма... этническое разнообразие призна-валось и поощрялось, причем не только в сугубо культурных областях (искусство, литература, наука, образование), но и в социально экономической и политиче ской сферах»4.
В принципе национальная идентичность может выступать в роли общегражданского самосознания, однако, как указывает З. Сикевич, «ценность этнического про исхождения в сознании многих народов России все еще заметно превышает значи мость общегражданской идентичности»5. О. Волкогонова и И. Татаренко называют три причины повышения роли этничности и идентификации современного россия-нина: во - первых, затянувшийся переход к другому типу социальной организации (реакцией на который является обраще ние к традиционности и устойчивости), во вторых, сепаратистские процессы в Российской Федерации в 90 -е гг. (когда многие агрессивные националистические движения винят за ошибки в националь ной политике не власть, а русских, делая из них «оккупантов», «нахлебников») и, в третьих, направленное идеологическое воздействие6.
Процессы социальной дифференциации протекали на постсоветском пространстве особенно болезненно, учитывая идеоло гию равенства, доминирующую в обще стве на протяжении многих поколений. Способы и формы социальной иденти фикации в таких условиях все в большей степени включают в себя этнический ком понент. Особое значение для этих процес сов имеет миграция. Распад СССР, сопро вождавшийся экономическим и соци альным кризисом, суверенизация новых государств по модели государств наций, борьба новых элит за власть, войны за спорные территории вызвали кризисные явления и в миграциях1. Между тем, и политики, и политологи, и социологи вот уже почти два десятилетия говорят о сложностях получения российского гражданства, о недостатках в системе правового обеспечения миграции, о трудностях получения вида на жительство. Однако, как отмечает директор Центра изучения элит Института социологии РАН Ольга Крыштановская, выбор между империей и демократией в настоящее время «усложняется тем, что демократия либерального типа испытывает кризис. Поэтому выбор очень сложен. Но он в любом случае должен быть мультикультуральным. Наша страна состоит из многих наций, и это непреложный факт и условие»2.
Эти обстоятельства, на наш взгляд, требуют специальных усилий по изменению ситуации со стороны законодателей, руководства страны и регионов, руководства органов внутренних дел, а в целом – всего общества. В частности, необходимо изменение ценностно-мотивационных принципов регулирования установок сотрудников силовых структур на процессы урегулирования противоречий и конфликтов, внесение коррективов в их профессиональную подготовку. Говоря о «социокультурном профессионализме», мы имеем в виду формирование компетенции в вопросах поликультурализма, толерантности и недискриминации. На практике модернизация профессиональной подготовки кадрового состава полиции происходит под влиянием преимущественно кризисных ситуаций.
В 2005–2006 гг. нами было проведено социологическое исследование – опрос сотрудников органов внутренних дел крупных промышленных центров в России: Саратовской (54,2%), Самарской (25,4%) обл. и ряда других регионов, среди которых Республика Мордовия, г. Пермь, Томская, Тюменская, Кемеровская обл., г. Йошкар-Ола, г. Сургут, Иркутская обл., г. Киров, Алтайский край. Результаты исследования сопоставлялись с данными социологических исследований межэтни- ческих отношений в современной России, проведенных и опубликованных в сети Интернет фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Для оценки установок по отношению к мигрантам как одного из видов эксклюзии в исследовании использованы несколько подходов: 1) на основе оценки роли мигрантов в контексте социальной безопасности на территории России (вопросы субъективной оценки криминальных аспектов жизнедеятельности мигрантов); 2) на основе оценки роли мигрантов в формировании рынка труда; 3) на основе оценки общего характера взаимоотношений с представителями мигрантов, принадлежащих к иным этническим группам.
Респондентами в социологическом опросе, проведенном автором, были следователи, сотрудники оперативных подразделений, сотрудники следственных изоляторов, вневедомственной охраны, паспортной службы, ГИБДД (N = 343). Как показали проведенные исследования, сотрудники милиции по своим служебным обязанностям чаще остальных россиян сталкивались с проявлениями межэтнических конфликтов. Это же обстоятельство порой мешало объективно воспринимать причины и внутренние механизмы динамики ситуации. Сравнительный анализ общественного мнения россиян и сотрудников органов внутренних дел указывает на более рельефное восприятие работниками милиции проблем межэтнического взаимодействия. О большом количестве приезжих, мигрантов за последние годы говорят 92% респондентов целевой выборки и 79% респондентов общероссийского опроса; ассимиляция представляется наиболее приемлемым вариантом поведения мигрантов для 62% опрошенных сотрудников МВД и 47% – по общероссийской выборке. В качестве основных причин конфликтов на почве национальной неприязни респонденты целевой выборки указывают на приезжих, мигрантов, тогда как согласных с таким мнением в общероссийском опросе вдвое меньше. На негативное влияние мигрантов на общую ситуацию в месте проживания указывают 70% сотрудников органов внутренних дел и 43% респондентов общероссийского опроса. Многонациональный состав населения России считают позитивным фактором 60% и 40% соответственно; отдельные национальные группы, проживающие в регионе, вызывают ощущение раздражения и неприязни у 30 и 40% респондентов соответственно1.
В апреле 2011 г. нами были проведена фокус-группа с целью проанализировать мнение иноэтничных студентов, обучающихся в юридических вузах г. Саратова, о состоянии мультикультурных практик. Целевая выборка ( N = 15) включала студентов различных этничностей (татары, чеченцы, осетины, казахи, аварцы). Данные фокус-группы были сопоставлены с результатами опросов студенческой молодежи, проведенных в других городах России по близкой тематике. Признавая очевидность и сложность проблемы дискриминации людей по признаку этнично-сти, студенты – будущие юристы констатировали, что этническая дискриминация менее всего проявляется в студенческой среде, но фиксировали существование данной проблемы на институциональном уровне, например, при столкновении с администрацией, ФМС (студенты ближнего зарубежья), сотрудниками полиции. Социальная идентификация иноэтничных студентов нередко включает такой компонент, как представление себя в качестве несправедливо угнетенного.
Подведем итоги. Мультикультурализм как политическая доктрина, представлявшая зримый успех левых политиков, выступает ареной жестких политических и академических баталий. Концепция мультикультурализма рисует несколько идеализированную картину современного государства, где люди различных культур и этничностей живут в равенстве и взаимопонимании. На практике мультикультурализм направлен либо на релятивизм, либо на конформность, которые либо проявляются в наивных лозунгах, либо заложены глубоко, в скрытой повестке дня. В условиях современного демократического государства мы наблюдаем кризис традиционных представлений о правах человека: попытки применения универсалистских норм в мультиэтниче-ских сообществах приводят к неожиданным конфликтам.
Однако в широком смысле мультикультурализм может быть определен как система социальных, культурных и правовых ценностей, принципов недискриминационной политики и практик толерантного взаимодействия групп и индивидов, формирования духовной жизни общества. В этом случае можно говорить о базовых принципах мультикультурной интеграции, таких как постепенность, создание экономических и социальных условий поддержки; трансформация институтов принимающей культуры; действенность законодательных актов против расизма, ксенофобии и терроризма; равный доступ к образовательным услугам и обеспечение недискриминационных практик; формирование эффективного коммуникативного пространства; свобода выбора стиля жизни, языка обучения и общения, принадлежности к конфессии при безусловном соблюдении законодательства государства проживания; систематический мониторинг результативности программ межкультурного взаимопонимания и преодоления неравенства.