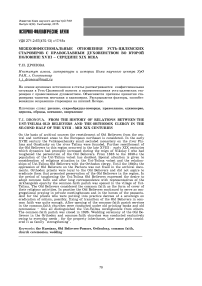Межконфессиональные отношения усть-цилемских староверов с православным духовенством во второй половине XVIII - середине XIX века
Автор: Дронова Т.И.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Рубрика: Историко-филологические науки
Статья в выпуске: 4 (24), 2015 года.
Бесплатный доступ
На основе архивных источников в статье рассматриваются конфессиональная ситуация в Усть-Цилемской волости и взаимоотношения усть-цилемских староверов с православным духовенством. Объясняются причины принятия староверами таинства венчания и единоверия. Раскрываются факторы, способствовавшие сохранению староверия на нижней Печоре.
Русские, старообрядцы-поморцы, православие, единоверие, церковь, обряды, венчание, окормление
Короткий адрес: https://sciup.org/14992794
IDR: 14992794 | УДК: 271.2-67(470.13)
Текст научной статьи Межконфессиональные отношения усть-цилемских староверов с православным духовенством во второй половине XVIII - середине XIX века
В первой трети XVIII в. Усть-Цилемская слободка (основана в 1542 г.) оставалась в числе двух русских поселений на нижней Печоре, входивших в Пустозерский уезд∗. О раннем периоде её развития сведения скудны, в частности, о численном составе мужчин в семье сообщается в материалах первой ревизии 1719–1723 гг. Всего по данным 1722 г. в слободе насчитывалось 229 душ (мужского населения), 17 больших семей, 26 – малых) [1]. В числе переселенцев указаны выходцы с Кевролы, Пинеги, Мезени, «Пучемской деревни», «Белощенской деревни». В документ не вошли селения по р. Пижме, известные из документов под названиями «Жилище близ урочища Голый холм» и «Верхнее жилище при Нижней камень», образованные ориентировочно в 1721 и 1718 гг.∗∗, и Великопоженский скит. Среди усть-цилемских населенных пунктов Великопожен-ский скит впервые упоминается в переписи 1834 г., несмотря на то, что он уже действовал с 1720-х гг. Вероятно, это были первые старообрядческие поселения, позднее включенные в состав Усть-Цилемской волости; образование двух населенных пунктов – д. Гарево (1729 г.) и с. Нерица (1731 г.) не связываются с переселением староверов. Переселенцами являлись коми-ижемцы, прибывшие исключительно с целью обретения свободных промысловых угодий [2, с. 108, 318].
До конца XVIII в. численный рост русскоязычного населения на нижней Печоре был незначительным: по материалам четвёртой ревизии (1782 г.) насчитывалось всего пять селений (приближенных к Усть-Цильме), а население составляло 1040 чел. (в графах, в том числе раскольников, стоит прочерк) [3]. Согласно статистическим данным, заметное увеличение численности населения и образование деревень начинается на рубеже XVIII – XIX вв., а в 1850 г. в Усть-Цилемской волости уже упомянуто 28 населенных пунктов с численностью 3146 чел., в самой Усть-Цильме проживало 1488 мужчин и 1658 женщин [4]. В числе переселенцев были жители пинежских и мезенских сел и деревень, незначительную часть составили староверы из центральных областей России.
Численность населения в Усть-Цилемской волости по данным ревизских сказок
|
Год |
Количество селений |
Численность мужчин |
Численность женщин |
Всего населения |
|
1722 |
1 |
229 |
– |
– |
|
1782 |
5 |
477 |
563 |
1040 |
|
1816 |
8 |
815 |
858 |
1673 |
|
1834 |
10 |
1272 |
1396 |
2668 |
|
1850 |
28 |
1488 |
1658 |
3146 |
Вторая – Пустозерская слободка.
∗∗ Впоследствии деревни были названы: Чуркинская (по фамилии первооснователя) и Верховская (по местоположению относительно расположения Великопоженского скита) [5].
Таким образом, активное увеличение численности населения и появление деревень в Усть-Цилемской волости было вызвано исключительно с процессом переселения староверов на нижнюю Печору, который начался в XIX в. и связывался с деятельностью Николая I, активизировавшего борьбу с расколом. За период его царствования с декабря 1825 г. по март 1855 г. было принято 426 постановлений, направленных на «ослабление раскола» [6]. В связи с этим исследовательский интерес к заявленному периоду – вторая половина XVIII – середина XIX в. – обусловлен необходимостью в изучении межконфессиональных отношений и выявлении факторов, способствовавших сохранению староверия на нижней Печоре.
Конфессиональная ситуация и межконфессиональные отношения
О религиозной ситуации в Усть-Цилемской волости в этот период становится известно из архивных документов, хранящихся в Государственном архиве Архангельской области. Со времен образования Усть-Цилемской слободки до 1856 г. в волости действовала православная церковь, освященная в честь Николы Мир Ликийских Чудотворца, в 1856 г. в с. Усть-Цильма был открыт единоверческий приход. Церковь также была освящена во славу Николы Чудотворца; 11 ноября 1865 г. был открыт приход в с. Замежная, церковь освятили во имя прпп. Зосимы и Саватия Соловецких Чудотворцев. Она была приписана к усть-цилемскому единоверческому приходу.
Прибывшие в Усть-Цилемскую волость староверы принадлежали к поморскому беспоповскому даниловскому согласию, поддерживали тесные взаимоотношения с насельниками Выговской обители. Кроме Великопоженского скита в волости действовал Омелинский скит по р. Цильме. В крупных деревнях и селах зажиточные крестьяне обустраивали в своих домах моленные, где собирались сельские жители по праздникам и воскресеньям на соборную службу. В малодворных деревнях хранителями староверия являлись исключительно старцы, поддерживавшие духовный порядок в семьях. В каждой деревне имелись сведущие в церковной грамоте люди, согласно местной терминологии грамотные, грамотеи , совершавшие богослужения и выполнявшие религиозные заказы ( требы ) крестьян – панихиды, молебны, литии. Общее окормление осуществляли духовники из Великопо-женского скита, где обучали крестьян грамоте и готовили к наставнической деятельности.
Уместно предположить, что несмотря на активное упрочение церковной реформы в центре России, ещё многие десятилетия усть-цилемские крестьяне продолжали жить прежней церковной жизнью, сохраняя древлеапостольское правило. О том, что в православной церкви служили по старопечатным книгам, становится известно из описаний исследователей, посетивших Печорский край на рубеже XIX – XX столетий. При этом они ссылались, что службы до пожара 1745 г. правили по ста- ропечатным книгам [7]. Безусловно, этому способствовала удаленность края и в силу этого безнадзорность над священниками, которые еще какое-то время, вероятно, оставались верными древлепра-вославию. Необходимо учитывать и факт лояльного отношения государства к староверам в периоды правления Петра III и Екатерины II, когда проявилась ярко выраженная терпимость к представителям староверия, а время правления Екатерины II в научной литературе названо «золотым веком в истории русского раскола» [6].
Архивные материалы свидетельствуют, что борьба со старообрядчеством на нижней Печоре не отличалась большим усердием со стороны священников [8]. В архивном «Деле о постройке и открытии единоверческой церкви в Усть-Цилемском приходе Мезенского уезда и мерах, предпринимаемых для приобщения раскольников в православие» (начато 13 июня 1849 г., кончено 18 мая 1863 г.») [9] говорится, что еще в начале XIX в. священники Усть-Цилемской православной церкви вносили записи о крещении и венчании в метрические книги без совершения соответствующих обрядов в церкви [10, л. 5]. Эти обстоятельства выяснились, когда остро обозначился вопрос о стремлении устьцилё-мов, приписанных к православию, но фактически являвшихся староверами, перейти в единоверие, которое они рассматривали исключительно как прикрытие их религиозной деятельности∗∗∗ (подробнее об этом далее).
Первые документы, удостоверяющие преследование старообрядцев и их религиозной деятельности в волостном центре, появляются в 1840-х гг. Известно, что в 1847 г. священнослужители православной церкви возбудили дело о ликвидации молельни в Усть-Цильме, размещавшейся в доме крестьянки Ирины Мяндиной. Моленная была опечатана, иконы и книги изъяты и переданы в православную церковь. Решением Ижемского суда крестьянка была приговорена к месячному заключению [11]. В окрестных деревнях пресечение религиозной деятельности не фиксируется. В ходе полевых исследований установлено, что в эти же годы в д. Конахино, расположенной в 3 км от волостного центра, в доме Степана Кузьмича Носова действовала моленная. При этом известно, что его сын Андрей Степанович был волостным писарем. В соседней д. Чукчино также имелась моленная в доме Демёшких, действовавшая до 1920-х гг. [Полевые материалы Т.И. Дроновой: записано от И.Л. Вокуевой, 1924 г.р. в д. Чукчино в 2013 г.].
Ещё одним фактом, свидетельствующим о вялой разъяснительной деятельности усть-цилем-ских священников по искоренению староверия в крае, является сохранение родовых кладбищ в с. Усть-Цильма и прилегающих к ней деревнях. В настоящее время в некоторых селениях действуют
∗∗∗ Известно, что «единоверие» как религиозное явление, призванное содействовать вовлечению староверов в официальное православие, не было принято «остальцами древлего благочестия» и называлось не иначе как лицемерие [12].
по два и более кладбища (в с. Усть-Цильма – три, в д. Коровий Ручей и Гарево – по два). Известно, что в XIX в. строго предписывалось совершать погребения раскольников в специально отведенных местах на общеприходских кладбищах, но на деле староверы хоронили близких на родовых могильниках ( могилы ). О таких фактах Архангельской епархии становилось известно из редких донесений священников, рапортов сельского управления, а также записок Мезенского земского суда, где рассматривались подобные дела. Решением суда предписывалось наказание, которое исполнялось сельской расправой: это могло быть наказание розгами, лишение свободы от трех недель до месяца и обязательно предписывалось отправлять виновных к Духовному начальству для вразумления [13]. Но несмотря на угрозы и наказания, староверы продолжали хоронить близких по своим заповедям, но раньше установленных правилом сроков – на второй день смерти – и тем самым избегали погребения усопшего по церковным канонам. Практиковалось также погребение некрещеных младенцев на меже, вблизи жилых домов. Большое количество родовых кладбищ было закрыто уже в годы советского строительства; могильники распахивались под поля, а впоследствии земли были отданы под застройку. Только в районном центре Усть-Цильме было закрыто четыре кладбища.
О характере взаимоотношений между староверами и представителями власти и церкви в середине XIX в. становится известно также из рапортов ижемского священника Алексея Зуева, который проводил активную работу по пресечению раскола в своей волости, и ему было предоставлено право надзора за усть-цилемским приходом. В рапортах священник подробно освящал жизнедеятельность усть-цилемских крестьян, сообщались их требования по вопросу открытия в волости единоверческого прихода и строительства единоверческой церкви. Вопрос о строительстве единоверческой церкви своеобразно был истолкован усть-цилемскими староверами, как уже говорилось, видевшими в открытии единоверческого прихода и строительстве церкви спасение вероисполнения. Однако не все усть-цилемские староверы были единодушны в этом вопросе. Наставники и более ревностные верующие были противниками единоверия. В частности, о неприятии пижемскими старцами единоверческой церкви в Усть-Цильме становится известно из письма старца Василия Чуркина, адресованного в 1859 г. жителю д. Подчерье А.С. Мартюшеву. В нем духовник не только давал советы (по поводу исповеди, женитьбы сына и др.), но и рассказывал о ситуации, сложившейся в Усть-Цильме, осуждая усть-цилемских крестьян за их вероотступничество: «А у нас на Устильме нынче бывшия христианы и крещения все запутались исправою пути сошли почитай все до одного человека. Задумали просить церковь и попа староверского, которое никак не может быть и в писании у святых отцов не сказано на это время, что будет такая церковь и учители негде взять прежде наших устелемов было ученых людей и в Данилов монастырь того недоходим по- тому что все до конца потеряно Никоном Еретником <…> и Богу служили без попов, а теперь устьци-лемци попа воспросили себе на погибель души и другие узнали и неладно зделали и некак избыть стало пожелали и подписались под эту церковь но только узнал в Пижме никто не подписался и не знает что будет, а не желает приобщения» (сохранена орфография и пунктуация оригинала – В.В.)» [14]. Повсеместно в России единоверцы воспринимались как вероотступники [15].
Диалог крестьян с представителями православия об открытии единоверческого прихода в с. Усть-Цильма длился более 10 лет, начиная с 1849 г. Складывается впечатление, что усть-цилем-ские крестьяне не являлись скромными просителями, – они требовали от Синода и Архангельской епархии разрешения на открытие единоверческого прихода, выдвигая свои условия. Например, они добились, чтобы церковь была построена в волостном центре, тогда как представители епархии, опасаясь перехода в единоверие православного населения настаивали, чтобы церковь была возведена не ближе 50 верст, по ходу дальнейшей переписки – 15-20 верст от села «если только не дальше, и где притом будут жить только единоверцы, а не православные» [16, л. 14]. Следующим условием крестьян было открытие единоверческого прихода для всех жителей волости, включая староверов, приписанных к православному приходу. Устьцилё-мы собирали сходы, на которые приходили и так называемые «православные», т.е. по сути те же самые староверы, которые по принуждению были крещены в православной церкви или приняли венчание, во время которого с них брали подписи о неотпадении от церкви. На сходе они выдвигали требования «полной воли» в делах управления приходом: предлагали самостоятельно решить вопрос о внутреннем устройстве церкви, обещая самостоятельно снабдить иконами, книгами и другими необходимыми для проведения служб атрибутами [17, л. 51]. Зуев в своем рапорте сообщает о настойчивости устьцилёмов и называет собрание староверов «бунтом», а строительство церкви неугодным делом в виду соблазна и возможного вредного последствия для других. Он призывает Синод посодействовать и через «гражданское начальство» усмирить бунтующих, дабы те не утруждали Синод и правительство ненужной изнурительной перепиской. На этот рапорт последовал ответ Святейшего Синода: Указ от 12 мая за № 4015, в котором говорилось следующее: через доверенных лиц вразумить просителей, что строительство церкви возможно только для раскольников, не приписанных к православной церкви и ввиду снисхождения к ним. Предписывалось: обратить особое внимание на качество и дарование священников к проповеди и, если те не справляются с поставленной задачей, то заменить их на более «благонадежнейших и способнейших» [18].
Из рапорта священника Алексея Зуева также известно, что все прихожане православного прихода (за исключением нескольких семей изначально православных) пожелали перейти в единоверие, и это вызывало немалые опасения у священников, поскольку могли закрыть православный приход, и местный священник опасался, что новое здание церкви будет передано единоверцам. В 1851 г. в Усть-Цильму приезжал епископ Архангельской епархии Варлаам, который пытался переубедить непокорных усть-цилемских крестьян остаться в православии, но его проповедь не возымела успеха. Устьцилёмы остались при своем мнении. Парадоксом усть-цилемского единоверия следует считать и тот факт, что староверы, приписанные к православию, все-таки добились разрешения на переход в единоверие, но для этого им необходимо было обратно обратиться в староверие [19]. Как все это происходило, в архивных материалах не сообщается.
Ещё одним важнейшим требованием крестьян было прошение о назначении в священники единоверческого прихода некоего Фёдора Красильникова, пономаря, служившего в православной церкви. Дело в том, что Фёдор Красильников являлся сыном Якова Красильникова, священника, служившего в усть-цилемской православной церкви, явно симпатизировавшего староверам. Это был тот самый священник, который фиктивно вписывал староверов в православную метрику, не требуя их участия в службах и причастиях. И хотя желание крестьян не было удовлетворено, настойчивость усть-цилёмов была очевидной.
В числе исполненных просьб было возвращение религиозной утвари и книг. Так, после закрытия Великопоженского скита крестьяне обратились к Архангельскому епископу с прошением о передаче единоверческому приходу икон и книг, изъятых из Великопоженского монастыря. Переписка длилась более двух лет и в 1859 г. 73 иконы были переданы в единоверческую церковь, немногим позднее и книги.
Отношение староверов к таинству венчания
Безусловного внимания заслуживает факт принятия некоторыми усть-цилемскими староверами церковного венчания, практиковавшегося наряду с браком, оформлявшимся родительским благословением и замолитствованием в частной (домашней) моленной. Ранние краткие сведения о причастности к венчанию усть-цилемских староверов относятся к середине XIX в. На начальном этапе прихода староверов на Печору переселенцы избегали церковного общения, и венчание происходило исключительно по принуждению. Но уже во второй половине XIX в. в волостном центре некоторые крестьяне вопреки своим убеждениям обращались к церковному таинству венчания с тем, чтобы получить юридические права на наследство [11]. Н.Е. Ончуков пишет об этом: «Таинство брака, так же как и все прочие таинства, устьцилёмы отрицают, и они жили бы, не венчаясь, но “нужды ради идут скверниться в никонианскую церковь к щепот-нику и табашнику попу”» [20, с. 1]. Со временем некоторые усть-цилемские женщины осознанно венчались в церкви, поскольку видели в этом «кре- пость брака»: «Устьцилёмы венчались прежде гораздо меньше, чем теперь, жили просто сходясь, но зато семейные узы были несравненно слабее. <…> Молодые устьцилёмки, зная непрочность неоформленного союза, выражают упорное желание венчаться в церкви» [20, с.2]. Но венчание было более характерно для жителей волостного центра; даже в близлежащих деревнях, не говоря уже об удаленных селениях, родители запрещали молодым венчаться, хотя такие случаи бывали [21]. Например, в «Деле о священнике Усть-Цилемской единоверческой церкви Дмитрии Кошеве и псаломщике той же церкви Иване Чупрове, обвиняющихся крестьянином Семеном Носовым в том, что они принимали деятельное участие в преднамеренном повенчании дочери его Марфы без его согласия и благословления», сообщается о решительных действиях отца девушки и его сторонников, устроивших «крутую разборку» в церкви с кровопролитием и предотвративших венчание [22].
Несмотря на определенные усилия, священники усть-цилемского православного прихода вяло вели работу по обращению староверов в официальную церковь. Видя безнадежность своих призывов к отречению староверов от древлеправославия, они считали достаточным принятие таинства венчания, чтобы причислить староверов к церковноправославным. Фактически же верующие по-прежнему оставались в староверии. Е.А. Ляцкий пишет: «Устьцилемы аккуратно посещают церковь, говеют, исповедуются и таким образом номинально присоединяются к церкви. А в это время дома идут спешные приготовления и совершаются свои обычаи и обряды, весьма мало соответствующие чину церковного очищения. В этих целях брачующие обращались к священнику, принимая на себя на неделю вид добрых христиан» [23]. О несерьезном отношении устьцилёмов к церковному православию пишет один из священников усть-цилемского прихода: «Приходит время молодому раскольнику жениться; зная, что без присоединения к православию его в православной церкви не повенчают, он соглашается принять пред таинством брака православие. Новоприсоединенные записываются, таким образом, в приходские книги уже как православные. Но этим и кончается общение новоприсоединив-шихся к православной церкви; после брака они снова становятся такими же раскольниками, какими были ранее. За временное же свое пребывание в православии они исполняют разные епитимии и временные отлучения от трапезы своих домашних» [24]. Архивные материалы свидетельствуют, что вступившие в брак впоследствии не являлись на исповедь, хотя и числились как православные: «Марья Осташова , 80 лет от роду, не была на исповеди и у святого причастия 22 года за расколом. Вдова Васса Осташова, 95 лет, не была у исповеди и святого причастия 48 лет за расколом. Дочь ее Епи-стимия, 54 года, не была у исповеди 15 лет и др.» [25].
Несмотря на то, что усть-цилемские староверы рьяно боролись за открытие единоверческого прихода, отношение к единоверию оставляло же- лать лучшего. По данным метрических книг, количество венчаний в православной церкви значительно превышало число венчаний в единоверческом приходе, рассматриваемом ими греховнее официального православия.
Вывод
Таким образом, благодаря пассивности священников и преданности староверов вере своих предков на нижней Печоре сохранено древлеапо-стольское учение. Открытие единоверческого прихода рассматривалось ревнителями старины исключительно как прикрытие для их религиозной деятельности. На практике староверы продолжали соборно служить в частных моленных, практиковалось исполнение важнейших треб в домах крестьян. После закрытия скитов в местах их нахождения были установлены массивные кресты, получившие статус святых мест. К крестам ежегодно приезжали староверы не только из усть-цилемских деревень, но и со всей Печоры. А для священников, проводивших в жизнь указы государя по искоренению раскола, вероятно, было достаточным фиксации перехода староверов в единоверие. После открытия единоверческого прихода службы в единоверческой церкви проводились по старопечатным книгам и старым обрядам – это отличало усть-цилемских единоверцев от прочих. Единоверческий приход был закрыт в 1926 г. Венчание староверов в православной и единоверческой церквях совершалось исключительно в силу житейских нужд – для наследования имущества, позднее некоторые девушки видели в этом «упрочение » семьи.
Работа выполнена по Программе фундаментальных научных исследований УрО РАН, проект №15-15-6-47 «Стратегии и практики освоения и заселения Европейской Арктики: локальные и кросскультурные процессы в исторической динамике».
Список литературы Межконфессиональные отношения усть-цилемских староверов с православным духовенством во второй половине XVIII - середине XIX века
- Вокуева Т.Д. Книга переписная государственных черносошных крестьян и канцелярских служащих Ижемской и Усть-Цилемской слободок Пустозёрского уезда Архангельской губернии 1719-1723 гг.//Северные родословия. Вып. 2. Архангельск, 2008. С. 255-267.
- Жеребцов И.Л. Населенные пункты Республики Коми: Историко-демографический справочник. М.: «Наука», 2001.
- Архангельская губерния по статистическому описанию 1785 г. (итоги подворной переписи)//Издание Архангельского губернского статистического комитета. Архангельск, 1916.
- Жеребцов И.Л. Коми край в XVIII -середине XIX в.: территория и население. Сыктывкар, 1998. С. 150.
- Вокуева Т.Д. Великопоженский скит: жилища «Голый холм» и «Нижний камень»//История формирования и развития Велико-поженского общежительства: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «За веру и крест». Замежная, 2013. С. 107-116.
- Водолазко В.Н. Старообрядчество в царствование Николая I (по материалам «Собрания постановлений по части раскола 1858 г.»)//Старообрядчество: история, культура, современность. М., 1998. С. 33.
- Истомин Ф.М. О религиозном состоянии обитателей русской Низовой Печоры. Из путевых наблюдений по Печорскому краю летом 1890 г. СПб., 1891.
- Гагарин Ю.В. Преследование старообрядчества в Коми крае русской православной церковью и самодержавным государством в XIX -XX вв.//Вопросы истории Коми АССР (XVII-XX вв.)/Отв. ред. Я.Н. Безносиков. (Тр. ИЯЛИ Коми филиала АН СССР; №16). Сыктывкар, 1975. С.121.
- Пичугин Л.Ф. О единоверии в русской церкви. М., 2009.
- Власова В.В. Скиты и кельи в старообрядческой традиции коми-зырян (XVIII -начало XX вв.)//История формирования и развития Великопоженского общежительства: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «За веру и крест». Замежная, 2013. С. 72.
- Машковцева В.В. Взаимоотношения старообрядцев и православного духовенства Вятской губернии во второй половине XIX -начале XX вв.//Старообрядчество: история, культура, современость. М., 2007. С. 34.
- Хрушкая Л.Н. Из истории единоверия в с. Усть-Цильма//Вторые Мяндинские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Сыктывкар, 2011. Т. 1. С. 223.
- Ончуков Н.Е. О расколе на Низовой Печоре. СПб., 1901.
- Ляцкий Е.А. Поездка на Печору (из путевых заметок)//Вестник Европы. Кн. 12. СПб., 1904. С.717.
- Архангельские епархиальные ведомости. 1898. № 7. С. 196-197.