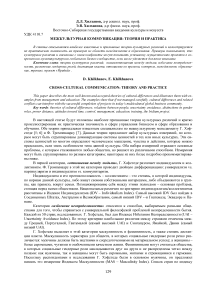Межкультурная коммуникация: теория и практика
Автор: Хилханов Д.Л., Хилханова Э.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье описываются наиболее известные и признанные теории культурных различий и иллюстрируется их практическая значимость на примерах из области менеджмента и образования. Примеры показывают, что культурные различия и связанные с ними конфликты могут помешать успешному осуществлению проектов в современном мультикультурном глобальном бизнес-сообществе, если им не уделяется должное внимание.
Теории культурных различий, взаимоотношения между людьми, избегание неопределенности, различение гендерных ролей, дистанция власти, отношение ко времени, контроль, менеджмент, образование, тренинг, проект "иридий"
Короткий адрес: https://sciup.org/142142481
IDR: 142142481 | УДК: 4110.7
Текст научной статьи Межкультурная коммуникация: теория и практика
В настоящей статье будут изложены наиболее признанные теории культурных различий и кратко проиллюстрирована их практическая значимость в сфере управления бизнесом и сфере образования и обучения. Обе теории принадлежат известным специалистам по межкультурному менеджменту Г. Хоф-стеде [5; 6] и Ф. Тромпенаарсу [7]. Данные теории предлагают набор культурных измерений, по которым могут быть сгруппированы доминирующие системы ценностей в тех или иных культурах. Эти системы ценностей во многом определяют человеческое мышление, чувства и действия, которые можно предсказать, если знать особенности типа данной культуры. Оба набора измерений отражают основные проблемы, с которым сталкиваются любые общества, но решают их различными способами. Измерения могут быть сгруппированы по разным категориям; некоторые из них более подробно прокомментированы ниже.
В первой категории, «отношения между людьми», Г. Хофстеде различает индивидуализм и коллективизм. Ф. Тромпенаарс в этой же категории проводит двойную дифференциацию: универсализм vs. партикуляризм и индивидуализм vs. коммунитаризм.
Индивидуализм и его противоположность – коллективизм – это степень, в которой индивидуумы, по нормам данной культуры, либо живут своими собственными интересами, либо объединяются в группы, как правило, вокруг семьи. Позиционирование себя между этими полюсами – основная проблема, стоящая перед всеми обществами. Национальные различия по критерию индивидуализма/коллективизма рассчитаны в Индексе Индивидуализма (IDV – Individualism Index). Самый высокий IDV был найден в Соединенных Штатах, Австралии и Великобритании, самый низкий IDV -–в Гватемале, Эквадоре и Панаме.
Категория «избегание неопределенности» относится к способам, выбираемым разными обществами для того, чтобы справиться с универсальной философской проблемой неопределенности бытия. Каждой из 50 стран, исследованных Г. Хофстеде, был дан Индексе Избегания Неопределенности (UAI – Uncertainty Avoidance Index). По этому критерию наибольшие различия между странами отмечены между Грецией, Португалией, Гватемалой (самый высокий UAI) и Сингапуром, Ямайкой, Дании (самый низкий UAI).
Г. Хофстеде выделяет в этой категории маскулинность и фемининность, а также степень дистанции власти. Маскулинность характерна для обществ, в которых социальные гендерные роли резко различаются: мужчины должны быть жесткими и сосредоточенными на материальном успехе; а женщины – более скромными, чуткими и озабоченными качеством жизни. Фемининными могут считаться общества, в которых социальные гендерные роли накладываются друг на друга и не распределены четко между полами: как мужчины, так и женщины могут быть скромными, мягкими и стремящимися к гармонии. Поскольку респондентами в исследовании Г. Хофстеде были в основном мужчины, он предложил назвать это измерение Индексом Маскулинности (MAS – Masculinity Index). Список стран по индексу маскулинности возглавляет Япония, затем идут немецко-говорящие страны (Австрия, Швейцария и Германия); также высокие баллы по MAS набрали карибские латиноамериканские страны – Венесуэла, Мексика и Колумбия. На крайнем полюсе «фемининности» оказались скандинавские страны, включая Швецию, Норвегию и Нидерланды.
Дистанция власти – это степень неравности распределения власти, ожидаемая и принимаемая членами любых коллективов, обладающими меньшей властью. Это культурное измерение базируется на степени человеческого неравенства, лежащего в основе функционирования любого общества. В исследовании Г. Хофстеде дистанция власти измеряется в Индексе Расстояния Власти (PDI – Power Distance Index). Различия, выявленные по этому измерению на уровне различных стран, позволяют противопоставить страны с низким PDI странам с высоким PDI, а также страны, находящиеся между этими полями. Страны с высоким PDI включают, к примеру, Малайзию и Мексику, страны с низким PDI – Австрию и Данию.
Относительно категории отношения ко времени Г. Хофстеде проводит различие между долго-временнной и кратковременной ориентацией, а Ф. Тромпенаарс – между последовательным и синхроническим, а также внутренним и внешним временем. Долговременная или кратковременная ориентации обозначают степень, с которой различные культуры программируют своих членов на принятие отсрочки удовлетворения их материальных, социальных и эмоциональных потребностей. Так, например, менеджеры в долговременно-ориентированных культурах работают на создание сильных позиций на рынке и не ожидают немедленных результатов. Исследование Хофстеде распределило 23 страны по Индексу Долговременной Ориентации (LTO – Long-term Orientation Index). Восточно-азиатские страны (Китай, Гонконг, Tайвань, Япония и Южная Корея) дали самые высокие баллы, западные страны – более низкие, а некоторые развивающиеся страны (Зимбабве, Филиппины, Нигерия и Пакистан) – самые низкие.
С точки зрения категории контроля культуры подразделяются на два основных типа: контролируемые извне и изнутри. Различие между внутренним и внешним контролем Ф. Тромпенаарс и Ч. Хамп-ден-Тернер описывают следующим образом: способ нашего отношения к окружающей среде связан со способом, которым мы пытаемся контролировать нашу собственную жизнь и судьбу. Люди интерна-листского склада имеют механистический взгляд на природу, не верят в удачу или предопределение. Они «внутренне направлены»; личное решение человека – это отправная точка каждого действия. Человек может доминировать над природой и руководить своей жизнью, если он прилагает для этого усилия. Люди экстерналистского склада обладают более органичным взглядом на природу. Человечество – одна из сил природы, полагают они, так что следует действовать в гармонии с окружающим миром. Действие природных сил (фатума, рока) непостижимо, поэтому человек никогда не знает, что может с ним произойти. Действия людей экстерналистского типа «внешне ориентированы» – приспособлены к внешним обстоятельствам.
Исследования Г. Хофстеде, начиная с самого первого, опубликованного в 1980 г. и произведшего фурор в целом ряде гуманитарных дисциплин, в первую очередь в межкультурной коммуникации, и давшего толчок к появлению такого направления в менеджменте, как межкультурный менеджмент, не включали Центральную и Восточную Европу. Он лишь предположил, что российские менеджеры могут быть охарактеризованы как обладающие высокой дистанцией власти, высокой степенью избегания неопределенности, среднего уровня индивидуализмом и низкой маскулинностью (невысокой степенью различения гендерных ролей на работе). Позже, в 1994 г., все эти предположения нашли свое подтверждение в исследовании Д. Боллингера [1].
Безусловно, все сказанное не означает, что культуры жестко подразделяются на «фемининные» или «маскулинные», долговременно- или кратковременно-ориентированные и т.д. Не претендуя на всеобъемлющий анализ этой проблемы, назовем лишь несколько наиболее существенных причин, почему этого не может быть. Во-первых, общеизвестно, что изменения являются неотъемлемой частью культуры, и одними из источников культурной динамики являются культурные заимствования и культурная диффузия. Во-вторых, хотя мы все являемся носителями той культуры, в которой мы выросли, личная и культурная идентичность индивида может существенно варьироваться – например, в традиционно коллективистских обществах найдется немало индивидуалистов и т.п. В-третьих, все культуры сегодня в той или иной степени затронуты процессом глобализации, которая ведет к универсализации (но не к формированию единой мировой культуры и однообразию!), что также исключает культурную изоляцию и сохранение какой-либо культуры «в чистом виде».
Необходимость знания культурных категорий объясняется тем, что они существенно облегчают осознание и принятие во внимание культурных различий. Это в свою очередь позволяет правильно интерпретировать действия представителя другой культуры, гибко реагировать на них и избегать возможных межкультурных конфликтов, т.е. проявлять межкультурную компетентность.
Рассмотрим преломление данных теорий на практике и кратко продемонстрируем этот тезис на примерах практической значимости межкультурной компетентности в двух областях – в сфере менеджмента и бизнеса и в сфере образования и тренинга.
Культурные различия между членами трудовых коллективов (постоянных или временных), где есть представители разных культур, могут иметь следствием непонимание и сложности в мотивации и тренинге. Р. Йоукер [9] привел пример из своего опыта преподавания курса по менеджменту проектов в Китае в начале 1980-х гг. Он отметил: «…было сложно заставить участников отвечать на вопросы в классе. Культура определяла то, что индивидуумы не должны ставить себя выше группы. Чтобы решить эту проблему, мы заставляли группу обсуждать вопросы и затем поручали одному человеку быть спикером. Это работало прекрасно, потому что не входило в противоречие с культурой. Теперь, через 20 лет, я понимаю, что этот аспект культуры изменился». Другими словами, ярко выраженный коллективизм постепенно уступает место в современной китайской культуре индивидуализму.
Другой пример, приведенный им же, также касается индивидуализма / коллективизма. Р. Йоукер отмечает, что в Тропической Африке расширенная семейная система является интегральной частью культуры. Он пишет, что «расширенная семейная система – замечательная система социальной безопасности в очень нестабильном окружении. Но это также и барьер для развития современной экономики. Это усложняет аккумуляцию капитала для бизнеса. Эта система ведет к непотизму вместо честной и открытой системы гражданской службы» [9]. Действительно, принципы коллективистской культуры, где бόльшее внимание уделяется связям, прежде всего родственным, могут тормозить развитие экономики. Но, с другой стороны, известна ключевая концепция guanxi в азиатском бизнесе, означающая личные связи, которые соединяют семейную сферу с деловой [8]. Наличие личной сети знакомств чрезвычайно важно в азиатских обществах. Это очевидное следствие коллективизма (связи важнее задачи), но это связано также и с долговременной ориентацией. Капитал guanxi у любого менеджера – долговременный капитал, и ни один менеджер, разделяющий ценности коллективистской культуры, не пожертвует им ради краткосрочной выгоды.
В заключение хотелось бы привести один из множества примеров из области межкультурной коммуникации и межкультурного менеджмента. Есть как успешные, так и провалившиеся межкультурные и международные проекты; пример, приведенный ниже, относится ко второй группе. Речь идет о международном проекте «Иридий», где предполагался запуск 66 низкоорбитальных спутников для создания телекоммуникационной сети, которая покрыла бы всю планету, позволяя коммуникацию с любой точки в любую точку земного шара. Это был самый большой телекоммуникационный проект из когда-либо планировавшихся. Он стоил 5 миллиардов долларов и в нем участвовало несколько широко известных компаний высоких технологий и около 6000 инженеров, техников и бизнес-администраторов в 26 странах. На этапе его планирования и на ранней стадии осуществления проекта ожидалось, что это будет большой успех [3].
«Иридий» достиг некоторых технических, логистических и операционных целей. Тем не менее это был впечатляющий управленческий и финансовый провал, в конце концов вынудивший компанию с ограниченной ответственностью «Иридий» объявить о своем банкротстве [2], в результате чего она была продана за 25 миллионов долларов [4]. Проблемы межкультурной коммуникации сыграли, возможно, не последнюю роль в падении «Иридия». «Международной структурой «Иридия» оказалось почти невозможно управлять: 28 членов правления говорили на многих языках, превращая заседания в миниконференции ООН. Участники сидели в наушниках, заседания переводились на пять языков» [2]. Главный исполнительный директор корпорации уволил своего подчиненного за то, что тот не смог вернуться из отпуска достаточно быстро, чтобы успеть к началу совещания, и оставил другого на посадочном поле отдаленного населенного пункта за то, что тот не смог быть в назначенного время на летном поле, чтобы вылететь на корпоративном реактивном самолете. Он «завел диаграмму с красными, зелеными и желтыми карточками для иллюстрации, какие партнеры консорциума шли согласно графику, какие отставали и какие совершенно выбились из графика. По свидетельству одного из участников, бывших там, некоторые партнеры, которые были отмечены красным «ярлыком», отказались говорить с ним после собрания» [2].
На данном примере мы видим, что методы управления были разработаны почти исключительно в индивидуалистских странах, в первую очередь в США, и соответственно основаны на культурных нормах, которые могут не разделяться в коллективистских культурах. Например, сообщение «плохих новостей» и прямолинейный стиль управления считаются ключевыми навыками для успешного проектного менеджера в таких странах, как США. Однако в управлении проектами с участием партнеров из коллективистских обществ нужно учитывать, что открытое обсуждение способностей человеком или качества его работы, вероятно, столкнется с нормой гармонии общества и может ощущаться подчиненным как недопустимая потеря лица. Коллективистские общества имеют более тонкие, косвенные способы обратной связи, такие как прекращение покровительства или вербальные способы, когда информация передается не напрямую, а через посредничество лица, пользующегося доверием обеих сторон.
Проектом «Иридий» руководил ориентированный на успех и действующий без учета эмоций сотрудников управляющий, который оказался сконцентрированным исключительно на установленных целях проекта без учета культурных различий. Проект «Иридий», пытаясь вовлечь много людей в одну организацию, которая диктовала западную модель бизнеса с принятыми в США пониманием задач, графиков и правил сотрудничества, не смог преодолеть многочисленные трудности, в том числе и из области межкультурной коммуникации.
Даже на этих небольших примерах видно, что знание базовых категорий культуры обладает большой практической значимостью. На Западе давно проводятся тренинги для менеджеров, готовящие их к успешному межкультурному взаимодействию, но, как мы видим, знание культурно-обусловленных причин поведения людей необходимо и в других областях. Более того, признаком межкультурной компетентности современного человека является не только осознание особенностей своей культуры и знание чужой, но и умение примирять различия носителей разных культур и находить консенсус, что является залогом успешного сотрудничества.