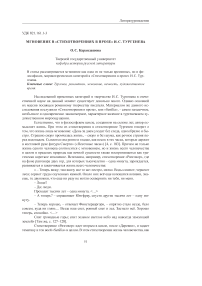Мгновение в "Стихотворениях в прозе" И. С. Тургенева
Автор: Карандашова Ольга Святославовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мгновение как одна из не только временных, но и философских, мировоззренческих категорий в «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева.
Тургенев, романтизм, мгновение, вечность, художественное время
Короткий адрес: https://sciup.org/146121919
IDR: 146121919 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Мгновение в "Стихотворениях в прозе" И. С. Тургенева
Исследований временных категорий в творчестве И. С. Тургенева в отечественной науке на данный момент существует довольно много. Однако основной их массив посвящен романному творчеству писателя. Материалом же данного исследования послужили «Стихотворения в прозе», или «Senilia», – самое загадочное, необычное и одновременно закономерное, характерное явление в тургеневском художественном мироощущении.
Естественно, что в философском цикле, созданном на склоне лет, автор осмысляет жизнь. При этом из стихотворения в стихотворение Тургенев говорит о том, что жизнь лишь мгновение: «День за днем уходит без следа, однообразно и быстро. Страшно скоро промчалась жизнь, – скоро и без шума, как речное стремя перед водопадом. Сыплется она ровно и гладко, как песок в тех часах, которые держит в костлявой руке фигура Смерти» («Песочные часы») [4, с. 183]. Причем не только жизнь одного человека соотносится с мгновением, но и жизнь всего человечества в целом в пределах природы как вечной сущности также воспринимается как трагически короткое мгновение. Вспомним, например, стихотворение «Разговор», где на фоне разговора двух гор, для которых тысячелетия – одна минута, зарождается, развивается и заканчивается жизнь всего человечества:
« – Теперь вижу; там внизу все то же: пестро, мелко. Воды синеют; чернеют леса; сереют груды скученных камней. Около них всё еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня.
– Люди?
– Да; люди.
Проходят тысячи лет – одна минута. <…>
– А теперь? – спрашивает Юнгфрау, спустя другие тысячи лет – одну минуту.
– Теперь хорошо, – отвечает Финстерааргорн, – опрятно стало везде, бело совсем, куда ни глянь… Везде наш снег, ровный снег и лед. Застыло всё. Хорошо теперь, спокойно. <…>
Спят громадные горы; спит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей» [Там же, с. 127–128].
Стихотворение «Разговор» идет вторым в цикле, после «Деревни», и задает тематику и тон всей «Senilia» в целом. В этом стихотворении жизнь человечества, как мгновенная, преходящая, противопоставлена вечному существованию равнодушной природы. Во всех последующих стихотворениях цикла жизнь человека осмысляется как трагически короткая, мгновенная, она неразрывно связана с мотивом смерти. Так, в третьем стихотворении «Старуха» герой пытается убежать от смерти, обмануть ее, но в итоге понимает, что, как он ни мечется, «как заяц на угонках… все то же, то же» [Там же, с. 128–129], – смерти миновать нельзя – могила сама накроет тебя в одно мгновенье. В четвертом стихотворении «Собака» человек и собака – оба понимают конечность жизни. Тургенев пишет: «Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом… И конец!» [Там же, с. 120–130].
Нередко для того, чтобы показать всю мимолетность жизни, Тургенев сопоставляет настоящее и прошлое. Так, например, в стихотворении «Когда я один… (Двойник)» Тургенев пишет: «Когда я умру, мы сольемся с тобой – мое прежнее, мое теперешнее я – и умчимся навек в область невозвратных теней» [Там же, с. 184].
Известно, что дважды (в разговоре с А. А. Фетом и в одном из писем Полине Виардо 1 мая 1848 года) Тургенев говорит об особом волнении, которое вызывает у него хрупкая зеленая веточка на фоне голубого далекого неба. Тургенева беспокоит контраст между тоненькой веточкой, в которой трепетно бьется живая жизнь, и холодной бесконечностью равнодушного к ней неба. «Я без волнения не могу видеть ветку, покрытую молодыми зеленеющими листьями, отчетливо вьющуюся в голубом небе, – почему? Да, почему? По причине ли контраста между этой маленькой живой веточкой, колеблющейся от малейшего дуновения, которую я могу сломать, которая должна умереть, но которую какая-то щедрая сила оживляет и окрашивает, и этою вечною и пустою беспредельностью, этим небом, которое сине и лучезарно только благодаря земле?.. <…> Ах! Я не выношу неба – но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту… все это я обожаю. Я ведь прикован к земле» (цит. по: [1, с. 61]).
Перекликается с этой мыслью и фрагмент из «Поездки в Полесье»: «Вид огромного, весь небосклон обнимающего бора, вид “Полесья” напоминает вид моря. И впечатления им возбуждаются те же; та же первобытная, нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается тот же голос: “Мне нет до тебя дела, – говорит природа человеку, – я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть”. <…> Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, – трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет – вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братии может исчезнуть с лица земли – и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность» [3, с. 130].
На мой взгляд, эти примеры характеризуют мироощущение, присущее писателю в целом, а не в силу каких-либо обстоятельств проявившееся в одном отдельно взятом произведении, хотя бы и зрелом, созданном в конце жизни, итоговом, как «Senilia».
Но вернемся к «Стихотворениям в прозе». Итак, жизнь человека (и даже человечества) осмысляется как мгновение, для человека вечности нет (ни в каком виде, ни в каком проявлении). Там, где люди рассуждают о вечности (например, в стихотворении «Черепа»), сами они мертвы: «А черепа поворачивались по-прежнему… И с прежним треском, мелькая красными лоскуточками из-за оскаленных зубов, проворные языки лепетали о том, как удивительно, как неподражаемо бессмертная… да, бессмертная певица пустила свою последнюю трель!» [4, с. 144].
Трагизм мироощущения Тургенева проявляется в том числе на языковом, лексическом уровне. Слова мгновенный, мгновенно, мгновенье никогда не появляются в жизнеутверждающем, оптимистическом контексте, а исключительно в каком-то негативном контексте, с отрицательной коннотацией. Например: «Да не смущает вас мгновенье грусти темной!» («Два четверостишия») (курсив здесь и далее мой. – О. К.) [Там же, с. 140]; « Мгновенно выступила наружу мертвенная белизна черепов» («Черепа») [Там же, с. 143]; «Тот мгновенно бухнул в бурные волны – и утонул» («Враг и друг») [Там же, с. 161]; «Я тотчас понял, что эта женщина – сама Природа, – и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх» («Природа») [Там же, с. 164]; «Прошло несколько мгновений … А я остался неподвижен и нем на могильной моей плите» («Встреча») [Там же, с. 174]; «Это море! – подумалось всем нам в одно и то же мгновенье . – Оно сейчас нас всех затопит… <…> Конец всему!» («Конец света (Сон)») [Там же, с. 135] и т. д. Синонимом мгновения является миг . Интересно, что если мгновение почти всегда напрямую у Тургенева связано со смертью, миг напрямую со смертью не соотнесен, но, тем не менее, также воспринимается в трагическом контексте. Например: «Но настал недобрый миг – и мы расстались, как враги» («Последнее свидание») [Там же, с. 146]; «О, поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною – ранним утром ранней весны!» («Посещение») [Там же, с. 148]; «Но глаза мои омочились слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг неподвижное, мертвое бремя» («Дрозд (I)») [Там же, с. 176] и т. д. Думается, что миг у Тургенева связан с обозначением времени, его краткости, а мгновение относится большей частью к обозначению трагической бренности жизни.
Обычно в литературоведении говорят о космическом пессимизме Тургенева. Однако более справедливой представляется точка зрения о «просветленном трагизме» писателя, высказанная в работах Г. Б. Курляндской и И. В. Карташовой [1; 2]. В «Senilia» трагизм просветляется искусством, любовью и пусть и безрезультатными с практической точки зрения, но прекрасными порывами человеческой души. В этом смысле показательно, на мой взгляд, что в целом трагический по мироощущению цикл (если опираться на прижизненное издание «Стихотворений в прозе» 1882 года, содержащее 51 произведение) обрамляется жизнеутверждающими стихотворениями «Деревня» и «Русский язык», переводящими повествование от бренности, мгновенности бытия к непреходящим, вечным ценностям и смыслам жизни.
Список литературы Мгновение в "Стихотворениях в прозе" И. С. Тургенева
- Карташова И. В. Этюды о романтизме. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. 181 с.
- Курляндская Г. Б. Проблемы жизни и смерти в «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева//Творчество И. С. Тургенева: сб. науч. трудов. Курск: Курский гос. пед. ин-т, 1984. С. 30-52.
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писе м: в 30 т. Т. 5: Повести и рассказы, 1853-1857. Рудин. Статьи и воспоминания, 1955-1859. М.: Наука, 1980. 544 с.
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Т. 10: Повести и рассказы, 1881-1883. Стихотворения в прозе, 1878-1883. Произведения разных годов. М.: Наука, 1982. 608 с.