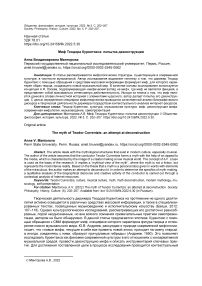Миф Теодора Курентзиса: попытка деконструкции
Автор: Манторова Анна Владимировна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются мифологические структуры, существующие в современной культуре, в частности музыкальной. Автор исследования выдвигает гипотезу о том, что дирижер Теодор Курентзис с помощью обращения к средствам массовой информации формирует миф, для которого характерен образ творца, создающего новый музыкальный мир. В качестве основы исследования используется концепция А.Ф. Лосева, подразумевающая «мифический взгляд на миф», где миф не является фикцией, а представляет собой максимально интенсивную действительность. Исходя из тезиса о том, что миф является данной в словах личностной историей с элементами чудесного, автор делает попытку его деконструкции. С целью определения специфики мифотворчества проводится качественный анализ биографического дискурса и творческой деятельности дирижера посредством контекстуального анализа интернет-ресурсов.
Теодор курентзис, культура, музыкальная культура, миф, деконструкция мифа, современная мифология, музыковедение, самопрезентация
Короткий адрес: https://sciup.org/149140211
IDR: 149140211 | УДК: 78.01
Текст научной статьи Миф Теодора Курентзиса: попытка деконструкции
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, ,
Perm State University, Perm, Russia, ,
анализ биографического дискурса при помощи различных интернет-ресурсов (сайт оркестра MU-SICAETERNA, ряд интервью, а также статьи в средствах массовой информации).
В число работ по теории мифа входят исследования Р. Барта, Е. Мелетинского, С. Неклюдова и других, что подробно рассмотрено в статье Т. Шакировой, выделяющей в числе отличительных характеристик современного мифа его концепцию авторского произведения (Барт, 2008; Неклюдов, 2000; Мелетинский, 2018; Шакирова и др., 2022). Курентзис, в отличие от героев архаических мифов, действительно является одновременно рассказчиком и участником мифа о себе. Представленный в различных сетевых источниках в равной степени и как российский, и как греческий дирижер, он в рамках самопрезентации не раз отмечал, что как музыкант он – русский. Данная характеристика, а также проникнутое самоиронией именование музыканта себя Федором Ивановичем Курочкиным уже на этапе знакомства демонстрируют игру масками или ликами1. Как следствие, наиболее операциональными для данного исследования видятся научные разработки Алексея Федоровича Лосева в его работе «Диалектика мифа».
А. Лосев, как и М. Элиаде, описывал миф как некое организованное по определенным правилам пространство мироощущения (Элиаде, 2010). Исходя из окончательной диалектической формулы Лосева, где «миф есть развернутое магическое имя», обратимся к оформлению сайта оркестра Курентзиса MUSICAETERNA (Лосев, 2018: 267). На его официальном сайте логотип с названием коллектива постоянно меняется на аналогичный по форме и композиции, но уже с начертанием СURRENTZIS. Данный прием благодаря плавным моушн-эффектам не только сюжетно, но и визуально иллюстрирует мысль А. Лосева о том, что «миф есть слово о личности, слово, принадлежащее личности, выражающее и выявляющее личность», а также «слово, которое неотъемлемо от нее» (Лосев, 2018: 266). Здесь мы можем наблюдать «развертывание» магического имени, подразумевающее не только единство имени Курентзиса и созданного им оркестра, но и более глубокое отождествление (musica eterna в переводе с итальянского – «вечная музыка» – А. М. ).
Еще одна любопытная в данном контексте деталь заключается в том, что на одной из страниц сайта в ряду рубрик чередуются вкладки «посетить», «посмотреть», «узнать», «поддержать» и «теодор»2. Своеобразное «растворение» имени среди неподходящих ему по формальному признаку заголовков иллюстрирует неразрывность двух личностных планов: личность как идея, представленная исключительно сама по себе, и «история этой личности, реальное ее протекание» (Лосев, 2018: 227). Предельно простыми категориями слов (глаголы и имя собственное) происходит становление, где личность неотделима от ее истории .
Помимо указанных визуальных примеров, не менее наглядным является отрывок одного из интервью, где Курентзис намеренно делает акцент на чудесной силе сказанного им слова, объясняя эту силу тем, кто произносит данное слово (Когда один из его коллег на фуршете безуспешно пытался привлечь внимание к своей речи, Курентзис добился мгновенной тишины, лишь еле слышно произнеся: «Это. Делается. Так» – А. М. ). Сам дирижер объясняет этот случай как «биоэнергию»3, что подчеркивает еще один тезис о том, что миф – это «энергийное, феноменальное самоутверждение личности» (Лосев, 2018: 156).
Как пишет Е.А. Лукашева, в современном мире «мифотворчество обретает форму пропаганды, пиара» (Лукашева, 2012: 8). При этом, если в тех или иных интервью возникает именно тема мифа, стратегия поведения Курентзиса меняется в зависимости от контекста. К примеру, момент отождествления или же ассоциации себя с персонажами греческой мифологии дирижер решительно отвергает, оперируя противопоставлением язычества и христианства, ввиду постоянного позиционирования себя во всех источниках как человека, для которого крайне важна православная вера4. Однако тут же практически кардинально меняет позицию и отмечает, что Прометей является крайне важным персонажем для него (Спивакова, 2020: 88). И данное высказывание не раз подтверждалось в иных интервью упоминаниями о его «миссии», которая заключается в том, чтобы развивать пермскую культуру, а также «дать людям образование и вкус», что несомненно проводит параллель с миссией Прометея, которая тоже является в некотором роде просветительской1. В трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» отчетливо звучит та же мысль: герой «припрятал для людей огонь, искусства всяческого стал учителем, путем великим жизни» (Эсхил, 2022). В наказание же был прикован к скале по велению Зевса, где орел терзал его печень. Интересной деталью является тот факт, что волю Зевса у Эсхила представляют Власть и Насилие. В одном из интервью звучит похожая история, где Курентзис противопоставляет себя власти в лице губернатора Пермского края, который, по его словам, вынудил его приехать и выступить перед своими друзьями после тяжелой операции на почках, в чем, возможно, есть некоторое преувеличение2.
В целом тема противостояния маэстро и власти звучит в его формулировках постоянно, как некий стержень конструируемой им мифологической формы по принципу построения музыкального произведения. Своеобразным крещендо в данной теме стало открытое письмо, написанное Курентзисом после того, как он оставил должность художественного руководителя Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского в июне 2019 года. В письме он отметил причины, по которым покидает Пермь, и в качестве ключевой обозначил непонимание власти, подчеркнув, что «такова и есть функция власти – не понимать». Помимо этого, дирижер усиливает поведенческий паттерн героя-жертвы, обозначая место своего пребывания и работы как рай, который он вынужден покинуть, вследствие непонимания и давления все той же власти3. Подобная метафора могла бы предстать иллюстрацией сознания религиозного, ввиду особенностей самопрезентации дирижера, однако, здесь так же можно наблюдать не «утверждение в вечности», а «самоутверждение энергийное» (Лосев, 2018: 147). Такие образы данного письма, как «тектонические разрывы воспоминаний и реальности», «желание увидеть собственный забытый лик », «Елисейские поля идей», «венок славы неизвестного» лишь подчеркивают структуру мифа, наполненную многогранными проявлениями, что вполне сопоставимо, например, с анализом коммунистической мифологии А. Лосева (Лосев, 2018: 152).
Не менее интересной деталью является способность Курентзиса работать на нужные стереотипы, меняя лики в зависимости от аудитории. «Каждый народ заслуживает своего правителя, каждый оркестр заслуживает своего дирижера», – говорит он, без труда меняя расстановку сил в мифологическом пространстве, перевоплощаясь из персонажа, противостоящего власти, в саму власть4. Стоит отметить, что в диалогах о власти он всегда опирается на довольно устойчивые конструкты: «Демократия – это когда есть разные мнения и все понимают, что это хорошо, что они есть. Это когда своими усилиями ты защищаешь права и мнение противника». Кроме того, он делает акцент на своем происхождении («я с исторической родины демократии»), выдвигая указанный факт в качестве аргумента5. Однако, высказываясь в нейтральном диалоге в пользу демократии и настаивая на важности принятия различных мнений с опорой на аргументы, логику и здравый смысл, дирижер в дискуссионной ситуации вокруг своей профессиональной деятельности, напротив, принимает непримиримую позицию. На вопрос, как он относится к рецензиям, где высказывается мнение о том, что предыдущая постановка (в отличие от постановки Курентзиса) была ничуть не хуже, он отвечает достаточно категорично и эмоционально: «Это только безумцы какие-то, наркоманы на героине могут такое сказать. Ничем не хуже? Тогда висели две тряпки, нарисованные парой пьяных художников. Видели ли вы, какие сейчас роскошные декорации? Или они подразумевали, что оркестр играл лучше в 80-х годах? Нужно быть неадекватным совсем, чтобы такое говорить»6. Таким образом, здесь сталкивается смысловое бытие и миф. Постоянно находясь внутри последнего, Курентзис неспособен оперировать в нем идеальными понятиями, поскольку миф для него «телесная, до животности телесная действительность». По этой причине в первом случае мы сталкиваемся с некой формулой, а во втором – с насыщенностью «эмоциями и реальными жизненными переживаниями» (Лосев, 2018: 44).
Довольно примечательно, что в попытках нивелировать разрывы между мифом и немифом (поскольку это отрицательно сказывается на цельности конструируемого образа) Курентзис предусмотрительно оправдывает своеобразное «жонглирование» подобными позициями: «вот я даю тебе это интервью – какие-то мысли будут удачно выражены, какие-то менее удачно. А на что-то завтра я, может, скажу, что был неправ»1.
Другая, не менее важная характеристика мифа по Лосеву, – это чудо . Даже без опоры на конкретную культурологическую дефиницию невозможно не обратить внимание на постоянно возникающие лексические конструкции со словом «чудо», вплетаемые в интервью, подобно заклинаниям: «Народ ходит на мои концерты, и что-то от них получает. И слава Богу. Чудо из чудес». И в подтверждение тезиса о том, что миф является для субъекта максимально действительной реальностью, здесь же звучит ответ дирижера на вопрос, верит ли он в чудеса: «В них не надо верить, они просто есть и всё»2. Таким образом, мы уже имеем дело с четко очерченным мифологическим пространством и действующим в нем мифическим субъектом. Стоит отметить, что однажды Курентзис сам высказался на эту тему совершенно однозначно: «Каждый день я стараюсь разрушить все башни, которые я сам построил и вокруг меня возвели. Тщательное разрушение собственной мифологии очень важно»3. Более того, свое отношение к подобным конструктам он тут же выражает ироничным цитированием известной песни «paroles, paroles, paroles». И подобной прямой отсылкой к идее о том, что миф есть слово (parole в переводе с французского - «слово» - А. М.), создает еще одну мифическую надстройку: инструменты подобного самопроектирования ему отлично известны, но он активно противостоит их применению и влиянию. Однако, невозможно обойти стороной тот факт, что после указанного диалога (интервью было взято в 2008 году – А. М. ) практически каждое интервью все больше отличается спецификой определенного языка, состоящего из целого сонма мифических образов (чего мы частично коснулись при анализе письма выше), таких как, например, «густой сладкий мед музыки, который опасен для организма»4. Также здесь появляется и детство, которое «пахнет солнцем», и «оркестровые подземелья», соединяющиеся «одной таинственной рекой5.
Показателен и тот факт, что положительно настроенная категория публики предсказуемо делает попытки получить причастность к этому мифу и, как следствие, ощущение некоей внутри-музыкальной элитарности. Интересно, что приобщение к мифу здесь происходят в основном двумя путями, но непременно с помощью слова. Первая возможность открывается, вне всякого сомнения, через сходные описательные категории творчества маэстро при помощи любительских рецензий, предполагающие, разумеется, восхищение: и вот уже его «музыку лучше слушать кожей» и «космическая гармония восприятия уносит к Ангелам»6. Вторая же, куда более иллюстративная, демонстрирует желание при помощи того же слова говорить с дирижером на одном языке: «очень хотелось бы каким-то загадочным образом поймать в воздухе этот букет смыс-лов»7. Выражаясь образами самого Курентзиса, здесь можно наблюдать попытки преодолеть ту бездну оркестровой ямы, преграждающую путь мифическому субъекту, который, по Лосеву, должен «бросаться на сцену, а не сидеть, занятый безмолвным ее созерцанием» (Лосев, 2018: 101). Точно так же Р. Миллер существенным условием обращения к мифу считает «чтение изнутри повествования» (Miller, 2014: 560). В процессе анализа сетевых текстов был обнаружен также и третий путь: признание исключительности и мифической отрешенности от идеи повседневной и обыденной жизни, но более понятными в этой обыденной жизни категориями – признание гениальности. Наиболее яркий пример можно наблюдать в тексте статьи пермского издания, имевшей место после ухода Курентзиса с должности художественного руководителя: «Во-первых, Теодор Курентзис – гений. И точка. И не надо с этим спорить»8. Таким образом, даже со стороны СМИ возводятся своего рода ограничители любой, в том числе объективной музыковедческой критики, хотя по факту борьба идет лишь между разными мифологиями, а не между наукой и мифом, поскольку «наука не может разрушить мифа» (Лосев, 2018: 53). Таким образом, наравне с личным проектированием (самопроектированием), в данном мифотворчестве мы сталкиваемся также и с коллективным – со стороны СМИ и зрительской аудитории, что в общей сложности демонстрирует как сходство с мифами архаичными, так и явное отличие.
Таким образом, анализ самопрезентации, имеющей место в интервью и в профессиональных практиках, позволяет обнаружить не только однозначно мифологическую конструкцию, но и достаточно конкретные образы, которые становятся ее основой. При этом Курентзис успешно разграничивает две ключевые проекции данной конструкции в стремлении работать на необходимые культурные стереотипы. С одной стороны, он активно поддерживает образ «ангела ностальгии», работающей на определенную аудиторию экзальтированной публики, и его собственное магическое имя постоянно дополняется вариациями, вроде «червяк, который любит желтую бумагу <…> монах, проповедующий романтизм <…> отшельник, который пьет кофе и разговаривает с Артюром Рембо и Антоненом Арто»1. Более того, этот инструмент он использует весьма открыто (подобные метафоры он приводит в ответ на вопрос интервьюера «Как бы ты хотел выглядеть в глазах окружающих?» – А. М. ), чем повышает уровень зрительского доверия. С другой стороны, он периодически подчеркивает свою отрешенность от данной стратегии, работая таким образом и на диаметрально противоположно настроенную публику: «Я бы хотел, чтобы люди абстрагировались от моей личности и сконцентрировались на том, что я делаю»2. Пересечения множества «я для других» представляют в результате единство выразительного и выражаемого, что определяет Курентзиса как персонажа мифического и открывает перспективы дальнейшего исследования с целью выявить наиболее близкие позиции в рамках архетипической матрицы.
Список литературы Миф Теодора Курентзиса: попытка деконструкции
- Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза истории / Ю.В. Лосев. Л., 1990. 223 с.
- Бакши. Л.С. Звуко-зрительный образ в современном театре // Вопросы театра. 2012. № 1-2. С. 107-118.
- Барт Р. Мифологии / пер. с фр. С. Зенкина. М., 2008. 351 с.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. СПб., 2018. 478 с.
- Неклюдов С.Ю. Структура и функция мифа // Мифы и мифология в современной России / под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г.А. Бордюкова. М., 2000. С. 17-38
- Шакирова Т.В., Еренчинова Е.Б., Чуманова Н.А. Генезис неомифологизма: философский аспект // Общество: философия, история, культура. 2022. № 1. С. 61-66.
- Элиаде М. Аспекты мифа / пер. с фр. В.П. Большакова: 4-е изд. М., 2010. 251 с.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа / А. Лосев. СПб., 2018. 320 с.
- Лукашева Е.А. Современная мифология и реалии политической и социальной жизни // Труды Института государства и права Российской академии наук № 3. 2012. С.5 - 35.
- Спивакова С. Нескучная классика. Еще не всё. / С. Спивакова. М.: АСТ, 2020. 528 с.
- Эсхил. Прикованный Прометей [Электронный ресурс] // Русская виртуальная библиотека. URL: http://rvb.ru/ivanov/1_critical/2_eshill/03add/03.htm (дата обращения: 18.02.2022).
- Miller R.D. Myth as Revelation // Laval théologique et philosophique. 2014. Vol. 70, no. 3. P. 539-561.