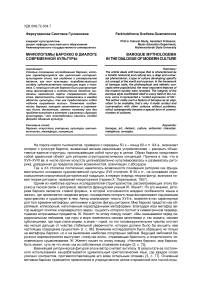Мифологемы барокко в диалоге современной культуры
Автор: Фархутдинова С.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию барокко, которое характеризуется как целостная историкокультурная эпоха, как глубокое и универсальное явление, как тип культуры, вырабатывающий особую художественную концепцию мира и человека. С помощью стиля барокко были распространены философские и эстетические понятия, выявлены важнейшие черты современного общества. Целостность стиля проявлялась в каждой области культуры, так как представляла собой «единое выражение жизни». Отмечена особенность барокко, которая заключается в стремлении быть доступным, именно поэтому оно без проблем вступало в контакт и разговор с другими культурами, что впоследствии явилось особой формой общения культур.
Барокко, искусство, риторика, культура, антиномичность, метафоры, концепции
Короткий адрес: https://sciup.org/14940696
IDR: 14940696 | УДК: 008:72.034.7
Текст научной статьи Мифологемы барокко в диалоге современной культуры
На пороге нового тысячелетия, примерно с середины 50-х – конца 60-х гг. XX в., возникает интерес к культуре барокко, вызванный весьма серьезными устремлениями – раскрыть объективные единые структуры, пронизывающие собой культуру в целом. Образ барокко представил собой идеальный объект для риторико-структуралистических концепций. Причина в том, что в XVII–XVIII вв. в числе прочих искусств целенаправленно культивировалась и развивалась риторика, доведенная до пределов своих возможностей, граничащих с абсурдом.
Так, в XX столетии постепенно наметились возможности понимания риторики как фундаментального основания художественной культуры XVII столетия. В 50-х гг., на основании переосмысления классической риторической традиции, в первую очередь теории фигур, возникла новая теория риторики, названная неориторикой (термин Х. Перельмана, 1957).
Одним из наиболее крупных исследователей-структуралистов, рассматривающих эпоху барокко в тесной связи с риторикой, является французский ученый Ж. Женетт. По его мнению, риторика барокко является «темой формы», в которой «сочленяются воедино особенности языка и жизни», где проявляется «видение мира», посредством которого люди воспринимают окружающее пространство и существуют в нем. Автор анализирует тексты XVII в., выявляя в них характерные для того времени метафоры, метонимии и другие фигуры риторики. Мир барокко предстал как обратимый, иллюзорный, наполненный неразгаданными метафорами. Благодаря игре метафор автор выводит понятие «перевернутого мира», сущность которого состоит в симметричном перевертывании встречаемых предметов. Ж. Женетт по этому поводу пишет: «Мы оказываемся перед парадоксальным пейзажем, где горы и моря поменялись своими качествами и, так сказать, своими субстанциями, где гора стала морем, а море – горой, но это головокружительное чувство отстоит как нельзя дальше от чувства стабильной уверенности, которую должно было бы внушить нам настоящее созерцание сущностей» [1, с. 86]. Внимание исследователя было обращено не только на метафоры барокко, но и на выявление наиболее популярных эмблем. Ведущей эмблемой барочного мировосприятия выступает «текучая вода», отражающая бренность и скоротечность человеческого существования. Ж. Женетт пишет по этому поводу: «Человек барокко, мир барокко, быть может, суть не что иное, как их собственное отражение в воде» [2, с. 72].
Важнейшей риторической фигурой эпохи автор считает антитезу. В результате ее постоянного использования «вырабатывается удивительный кристаллический язык, где каждое слово усилено контрастом, противопоставляющим его всем остальным словам» [3, с. 77]. Основным мотивом барокко признается привнесение в упорядоченное целое откровенной или тонкой игры, в результате чего сама упорядоченность останется лишь пустой рамкой. Трудно упорядочить безмерно расшатавшееся, утратившее центр и буквально дезориентированное мироздание при помощи иллюзорной, но утешительной симметрии, которая превращает неизвестное в зеркальное отражение известного [4, с. 78]. Ж. Женетт не просто восстанавливает историческую справедливость, но и делает шаг к обузданию «головокружительной» бесконечности аналогических смыслов, неограниченно умножающихся при господстве «метафорического» типа мышления.
Реабилитация риторики во второй половине прошлого столетия вызвала особый интерес лингвистов и семиологов и повлияла на необходимость «регламентировать» словесную массу национального языка. Теория фигур была тем разделом, который подвергся переосмыслению в неориторике и лег в основу метода риторического анализа, а также целого ряда других методов исследования текста. «Сегодня, – пишет Ж. Женетт, – мы называем “общей риторикой” то, что фактически является трактатом о тропах» [5, с. 17].
В 1970 г. в восточноевропейской и советской гуманитарной науке обнаруживается собственное восприятие образов барокко, отличное от радикальных западно-модернистских концепций. В исследованиях венгерских ученых А. Андъяла, С. Матхаузеровой, польских – Я. Бялостоц-кого, Я. Соколовска эпоха рассматривается как объективная основа для решения проблем, свойственных западноевропейской науке. Выявляются и основные темы, касающиеся риторического способа познания и структурирования мира.
-
С. Матхаузерова в своих исследованиях подчеркивает, что для истории русской литературы характерно раздвоение единого на две противоположные эстетические концепции. Одна из них представила господство метафорического мышления, которой соответствовали иконологические образы. «Этот период, – пишет автор, – является периодом великих перемен, слияний и смешений “старого” и “нового”, историческая ценность которых поднялась до высокого уровня русской художественной мысли и проявила себя вполне самобытно» [6, с. 281]. Таким образом, эпоха предстает в виде образа – знака, имеющего смысловую семантическую нагрузку.
Барокко сегодня трактуют как явление глубокое и универсальное, как тип культуры, вырабатывающий особую художественную концепцию мира и человека. Так, эпоха барокко становится тем объектом в истории культуры XX столетия, обращение к которой и ее изучение поможет во многом разобраться, раскрыть и выявить важнейшие черты современного общества. Итальянские гиперманьеристы черпают свое вдохновение в живописной манере времен маньеризма и барокко, стремясь перейти от линейности авангарда к образности и пространственности изображений и предыдущих столетий. Цветовые контрасты, игривое пространство суть те черты современного искусства необарокко, которые позволяют переносить взгляд с целого на деталь или фрагмент.
Ощущение театральной призрачности и неаутентичности жизни являются базовыми для необарочного мироощущения. Образы барокко в постмодерне сталкиваются с разными гранями эксплуатации игрового начала – от «Игры в бисер» Г. Гессе до «Игры в классики» Х. Кортасара, но в значительном усложнении его строения. В данных произведениях игровой элемент проявляется в постоянном чередовании времени и места действия. Праздничная игровая стихия уже не просто сообщается человеку разными особенностями художественного текста, но уже самим им творится и разыгрывается [7, с. 307].
Барочный взгляд на действительность, позволяющий нарушать слаженный ритм форм, помогает известным поэтам, кинематографистам эпохи постмодерна раскрыть в контексте культурных ассоциаций новые значения тех или иных образов. Метафористичность мышления барокко, дидактическая направленность, совмещение реального и аллегорического начал в произведениях Г. Гессе, Х. Кортасара, В. Пелевина позволяют не только выразить в себе стилистику многозначности и универсальности всех эстетических и поучительных решений, но и ввести постмодернистские образы [8, с. 420]. В экранизации прозы, где важную роль играет рассказ – картинка, например в кинематографе Ф. Феллини, они являются его манерой смотреть на вещи.
В это же время возникают концепции, трактующие постмодернизм как «фристайл». Философы, социологи осознали особый характер феномена 1980-х гг. М.Н. Липовецкий, Ж. Делёз назвали его эрой крайностей, необарокко, призрачной кажимости постмодернизма. Понятия «необарокко» и «постмодернизм» стали синонимичными. По мнению обоих авторов, обращение к образам барокко позволяет обесценившему настоящее постмодернизму заполнить их индивидуальным экзистенциональным смыслом, претворяя их тем самым в несомненную для субъекта реальность, которая существует только здесь и теперь.
Рождение «необарокко» исследователь Ж. Делёз рассматривает и сравнивает с образами барочной культуры. Автор пишет: «В отличие от нашего одномерного и фрагментарного понимания мира, космос барочной культуры был целостен и завершен. Противопоставление, как например у Рабле слепая ярость – мудрости, гордости и хладнокровию, для людей барокко не являлось окончательным разрывом» [9, с. 54]. Уместно также вспомнить удачно найденное Ж. Делёзом понятие «складка барокко»: «…различение, – пишет, ссылаясь на М. Хайдеггера, Ж. Делёз, – связано не с чем-то изначально дифференцированным, но с различением, которое непрестанно развертывается и изгибает складки по каждой из двух сторон, и развертывает одну сторону не иначе, как складывая другую, при со-предельности сокрытия и открытия Бытия, присутствия и ухода сущего. Каждая складка противопоставления отбрасывает и активизирует другую. Это напряжение, в котором находится каждая складка, натянута внутри другой» [10, с. 55]. Автор дает описание «складки» и определяет ее следующими шестью свойствами эстетики барокко. «Складка» – понятие, относящееся к философскому термину, характеризующее в первую очередь способ, каким различие осуществляется. Ж. Делёз в работе «Складка (Pli)» определяет складку как различие, как сгиб, который сам по себе может быть различен.
-
1. Складка барокко изобретает бесконечное произведение или бесконечный процесс, она затрагивает все виды материи, которые становятся материей выражения в разных масштабах, определяет и порождает форму, превращая ее в генетический элемент или бесконечную линию.
-
2. Бесконечная складка не перестает отличаться от самой себя, это виртуальность, актуализирующаяся в душе, но реализующаяся в материи, это характерная для барокко черта: экстерьер расположен снаружи, интерьер – внутри.
-
3. Мировая складка – линия распространяется по двум направлениям. Присущая черта барокко – абстрактность – не означает отрицания формы, она постулирует складчатость формы, существующей в виде «пейзажа интеллекта». Материя образует фон, а складчатые формы – его проявления (манеры).
-
4. Барочная складка становится «методом», процессом, действием, у которых есть точки опоры, одна выражена в вибрации цвета в складках материи, другая направлена на устранение пустоты.
-
5. Барочная текстура определяется не столько гетерогенностью, сколько манерой. Она становится экспрессивной и соотнесена с несколькими факторами: светом и светотенью, а способы изображения тяготеют к духовному началу.
-
6. Чрезмерная кривизна становится «маньеристской» и приступает к формальной дедукции складки. Следовательно, следует различать складки простые и сложные [11, с. 45].
В основе рассуждений универсального образа барочного мира идея о «новой гармонии» Ж. Делёза завершает барочный континуум искусств. Автор считает, что именно барочная музыка как «извлечение гармонии из мелодии» представляет собой «непременное восстановление высшего единства» [12, с. 58]. «Искусство барокко, – пишет далее исследователь, становится “социумом”, публичным социальным пространством. Этот театр искусств и является живой машиной из “Новой системы” в том виде, как описал ее Г. Лейбниц, бесконечной машиной, все детали которой – тоже машины, по-разному сложенные или менее развернутые. Будучи сжатыми, сложенными и свернутыми, стихии представляют собой движение к расширению и растягиванию мира. Это мир, обширный и плывущий, по крайней мере над своим основанием, является сценой или же громадной площадкой (плато), в котором этот континуум искусств есть совокупно расширяющееся единство, преодолевающее себя по направлению к совершенно иному единству – всеохватному и духовному, точечному и концептуальному» [13, с. 213].
Исследователь барокко А.В. Липатов, обращаясь к образам, моделям эпохи, подчеркивает мысль о функционировании той или иной данной художественной структуры в обществе, то есть структуры сугубо социальной по своему характеру, дающей оценку и определяющей роль конкретной исторической действительности. Вот как пишет об этом автор: «Социально-эстетическая специфика художественной структуры (античность, Ренессанс, барокко) отражала и являлась практическим результатом общих закономерностей, воплощенных в модели определенного этапа» [14, с. 275].
Интерес к личности, характерный для Возрождения, углублялся, обретая онтологическую разработку в период барокко. Эта проблематика, которой уделялось столько внимания в философии, литературе и искусстве XVII в., стала отражением актуальных потребностей и насущных чаяний общества в XX столетии. Обращение к характерным представлениям культуры барокко, к ее проблемам индивидуально-преходящего и вечного, не является случайным для автора. Он выявил критерии интеллектуально-психологической драмы личности, столь характерной для данной эпохи. «Барокко, – пишет исследователь, – детерминировало проблему личности в плане философском, социологическом, психологическом учеными, идеологами, художниками. Следствием социально-философских устремлений эпохи явилось психологическое углубление конфликта и связанное с этим выдвижение на первый план персонажа не как типа, а как личности. Новая концепция личности отразилась и на специфике массового мировосприятия. Интерес к индивидуальному, субъективному, неповторимому в своей единичности – все это стало знаменем времени, накладывая отпечаток в равной степени и на эстетические вкусы, литературные концепции, сферу рецепции, и на воззрение вообще» [15, с. 218].
Стремление «объективистски» понять эпоху барокко заключается в изучении ее с точки зрения социально-исторического подхода. К.Дж. Фридрих в своей работе «Век Барокко. 1610– 1660» дает характеристику барочной политике, литературе, музыке, философии, пластическим искусствам, религии и науке, говорит о том, что термин «барокко» перестает быть только узко искусствоведческим понятием. «Барокко, – пишет исследователь, – было европейским способом чувствования и мышления, выражения мира и человека» [16, p. 43]. Произведения искусства только передавали этим переживаниям художественную форму. Барочное искусство нашло свое наиболее полное воплощение в «городе, замке и опере», литература – в произведениях Корнеля, Мильтона, Кальдерона и Гриммельсгаузена, философия – в интуициях Р. Декарта и Б. Паскаля.
Области знания и сферы человеческой практики (духовные и светские, научные и политические, психологические и технические) объединяются в «новое чувство власти», которое дает возможность «создать свое собственное общество, свою собственную судьбу» [17, p. 36]. Вера во власть человека становится девизом века. Вселенским масштабом обросла фраза Т. Гоббса. Мыслитель чувствует связь своего времени с эпохой, заявляет, что, «вероятно, не было века, позволившего этой страсти больше к обладанию властью меньше стать столь всеохватывающей, если только не наш собственный, во многих отношениях столь странно родственный барокко» [18, р. 45].
Рассмотренные в работе тенденции культуры XX в. показывают, что мы являемся свидетелями, с одной стороны, мозаичных, не укладывающихся в единую формулу художественных поисков, с другой – такого уникального явления, как активизация диалога современной культуры с предыдущими эпохами. Большое место в этом диалоге занимает художественное, интеллектуальное, философское определение барокко как образа культурно-исторического феномена с различных сторон отечественной культуры.
Ссылки:
-
1. Женетт Ж. Фигуры. Т. 1. М., 1998.
-
2. Там же. С.72.
-
3. Там же. С.77.
-
4. Там же. С.78.
-
5. Там же. С.17.
-
6. Матхаузерова С. Две теории текста в русской литературе XVII века // Слово о полку Игореве и памятники древнерусской литературы. Л., 1976.
-
7. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2001.
-
8. Там же. С.420.
-
9. Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1997.
-
10. Там же. С.55.
-
11. Там же. С.45.
-
12. Там же. С.58.
-
13. Там же. С.213.
-
14. Липатов А.В. Формирование польского романа и европейская литература: Средневековье, Возрождение, Барокко. М., 1977.
-
15. Там же. С. 218.
-
16. Friedrich C.J. The Age of the Baroque. 1610–1660. New York, 1952.
-
17. Ibid. P. 36.
-
18. Ibid. P. 45.
Список литературы Мифологемы барокко в диалоге современной культуры
- Женетт Ж. Фигуры. Т. 1. М., 1998.
- Матхаузерова С. Две теории текста в русской литературе XVII века//Слово о полку Игореве и памятники древнерусской литературы. Л., 1976.
- Кривцун О.А. Эстетика. М., 2001.
- Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1997.
- Липатов А.В. Формирование польского романа и европейская литература: Средневековье, Возрождение, Барокко. М., 1977.
- Friedrich C.J. The Age of the Baroque. 1610-1660. New York, 1952.