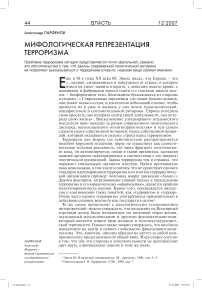Мифологическая репрезентация терроризма
Автор: Парфенов Александр Игоревич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Безопасность
Статья в выпуске: 12, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170164058
IDR: 170164058
Текст статьи Мифологическая репрезентация терроризма
е ще в 30-е годы ХХ века Ю. Эвола писал, что Е-вропа – это «…месиво, сжимающееся и трясущееся от страха, о котором никто не смеет заявить открыто, с деньгами вместо крови, с машинами и фабриками вместо плоти и с газетами вместо мозгов – бесформенное тело, беспокойно бросающееся из стороны в сторону…» Современные европейцы «не знают больше воинов, они знают только солдат, и достаточно небольшой стычки, чтобы привести их в ужас и вызвать у них поток гуманистической, пацифистской и сентиментальной риторики. Е-вропа потеряла свою простоту, она потеряла центр своей деятельности, она потеряла свою жизнь»1. Высказывание ультраправого итальянского мыслителя явно выходит за рамки современного политического дискурса, выхолощенного «политкорректностью» и тем самым страхом перед собственной историей, перед собственной природой, который оказывается сильнее страха перед терроризмом.
Терроризм как форма зла действительно распространяется подобно вирусной эпидемии: вирус не существует как самостоятельная телесная реальность, это лишь фрагмент генетического кода, он активизируется, попав в ткани организма, заставляя данный организм перестраиваться в соответствии с его (вируса) генетической программой. Зараза терроризма тем и страшна, что поражает социальный организм изнутри. Найти противоядие пока невозможно, в том числе и потому, что не существует единого стандарта идентификации терроризма или хотя бы террористической организации (пример: полемика вокруг движения «Хамас»). Другим фактором, затрудняющим единый подход к определению терроризма и его юридическому «оформлению», является крайняя политизированность оценок. Кроме того, продолжается дискуссия о соотношении таких понятий, как «терроризм» и «террор». Очень часто термин «терроризм» употребляется применительно к действиям силовых ведомств или государств в целом2.
То же самое происходит с идеологическим столкновением интерпретаций: можно утверждать, что нападение на Всемирный торговый центр было нападением на западный образ жизни, осуждаемый мусульманскими и другими фундаменталистами, который является миром прав женщин и мультикультуралист-ской терпимости. Однако также можно утверждать, что оно было нападением на центр и символ глобального финансового капитализма. Это, конечно, никоим образом не влечет за собой компромиссного представления об общей вине. Идея скорее состоит
ПАРФеНОВ
Александр
Игоревич – доцент Саратовского государственного университета
в том, что обе эти стороны в действительности не противостоят друг другу, а принадлежат одному и тому же полю.
Западный мир сделал все для становления исламского терроризма: не будем говорить о крестовых походах и колониальных войнах, ограничимся примерами последней четверти ХХ века: поддержка афганских моджахедов в их войне против советского присутствия в А-фганистане, содействие формированию движения «Талибан»; политика, приведшая к победе исламской революции в Иране; поддержка боснийских мусульман в их войне с сербами, поддержка косовских сепаратистов, в том числе посредством бомбардировок Югославии; поддержка (по меньшей мере моральная) чеченских сепаратистов; неоправданная агрессия против Ирака и т. д. Терроризм осуществляется средствами, которые заимствованы у Запада: огнестрельное оружие, взрывчатка, сотовые телефоны. Все виды вооружений «террористической войны» разработаны на Западе, и попытки создать оружие массового поражения невозможны без добытых на Западе технологий, материалов и специалистов.
Террористическая война, которая якобы началась 11 сентября 2001 года, стала универсальным оправданием для агрессивной внешней политики США-. «Политическая корректность» исследователей, опасавшихся резкими заявлениями усугубить имеющиеся конфликты и спровоцировать новые, уклонение общества от серьезного разговора о терроризме на деле попустительствовали США- в поиске врагов в разных точках Земного шара и разделяемой некоторыми их руководителями манихейской логике рассуждений: «Кто не с нами, тот против нас»1. В то же время некоторые аналитики предлагают увидеть «корень проблемы» в неравномерности распределения мировых благ и надеются, что если бы мы были «толерантны» к потенциальным террористам, они, возможно, также были бы более склонны к переговорам и сотрудничеству. И это еще одно серьезное и опасное заблуждение.
При этом для идеологов неважно, реальна ли террористическая война, значительно важнее видимость войны, которая воздействует на массовое сознание испуганных обывателей. Такое ее значение сохраняется не только для тех, кого касается эта война, но и для беспристрастного зрителя, который мыслится в качестве адресата террористических акций. Террористическая война живет своим нереально-фантазийным характером, поскольку затрагивает зрителя, вызывая в нем страх, сострадание и даже радость2.
«Терроризм» стал одним из наиболее впечатляющих мифов, которыми одержимо массовое сознание. Р-еальное политическое значение терроризма не столь велико, но как символ, как захватывающий образ, как психологический ход он приобрел удивительную значимость в современном мире3. «Общество риска» превратилось в реальность. А-втор этого термина – немецкий социолог У. Б-ек4, раскрывая его содержание, указывал на состояние всеобъемлющего страха, все более овладевающее людьми, на формирование языка опасности. Страх определяет чувство жизни. Ценность безопасности вытесняет ценность равенства. Это ведет к усилению закона, к видимому разумному «тоталитаризму от опасности» — «экономика страха» обогащается во всеобщем разрушении нервов. Недоверчивый и подозрительный гражданин должен быть благодарен, что его сканируют, копируют, обыскивают и допрашивают для «его же безопасности». Б-езопасность, подобно воде или электричеству, становится одним из общественно организованных потребительских благ5. Но для многих людей потребление является не целью жизни, а опасностью для нее, и они, чтобы придать смысл своему существованию и выжить, ищут индивидуальные стратегии в религиозных и экологических движениях. У. Б-ек доказывает, что индустриальное общество превратилось в индивидуализированное общество риска. Примирение индивида с потерей идентичности описывается как обращение к прошлому в структурах этничнос- ти, родства и соседства и в индивидуальных связях1.
Р-ационалистическая культура сильнее какой-либо иной страдает коллективной паранойей. Ч-то бы ни случилось: малейший непорядок, катастрофа, землетрясение, рухнувший дом, непогода — все это чье-то покушение, ведь должен же за это кто-нибудь отвечать. Поэтому не столь интересен рост самого вредительства, терроризма и бандитизма, сколько тот факт, что все происходящее интерпретируют в этом смысле. Несчастный случай или нет? Вопрос неразрешим. Да он и неважен, поскольку категория несчастного случая слилась с категорией покушения. И в рациональной системе так и должно быть: случайность может быть отнесена только на счет чьей-то человеческой воли, а потому любая неполадка расценивается как порча — или, в политическом контексте, как покушение на общественный порядок. Срабатывает эффект постоянного психологического давления, а также наглядно проявляется своеобразный апокалипсический символизм террора эпохи глобализации. Страх как принцип террористических действий связан с первобытным ужасом, который испытывается в ситуации полного бессилия, в ситуации, в которой мы не способны к действию. Этот страх, который не может выступать принципом действия, не является основанием действия и в области политики, а наоборот – препятствует ей, вызывая сомнение.
Современный терроризм «телегеничен»: простое присутствие телекамеры в том или ином месте само по себе может вызвать вспышку насилия. Б-лагодаря мощи средств распространения ново сти о терак тах получают социальный и
«исторический» размах. В происшествиях кристаллизуются новые формы политики, которые в значительной степени возникают благодаря массмедиа. Эти различные факты являются «символическими действиями», но не независимыми, а возвращенными в русло политической значимости. Нет никакого сомнения и в двойственном характере оценки этих событий: если благодаря массмедиа под внешним покровом происшествий возникает политическое измерение, то точно так же благодаря массмедиа категория происшествия повсюду захватывает политику. Впрочем, благодаря массме-диа само происшествие изменило свой статус: из второстепенной категории, пришедшей к нам из альманахов и народных хроник, происшествие превратилось во всеобщую систему мифологической интерпретации, тесную сеть моделей значимости, из которой не может ускользнуть ни одно событие.
Справедливости ради следует заметить, что терроризм возник гораздо раньше, чем технические достижения современной цивилизации, к которым относятся пассажирские самолеты, теле- и видеокамеры, Интернет и т. д. Р-азмах современного терроризма был бы невозможен без технического прогресса, но еще при полном отсутствии такового террористы успешно решали задачи оповещения общества и нагнетания ужаса при помощи таких способов распространения информации, как слухи и сплетни. Однако современные СМИ преуспели в эстетизации терроризма, они сделали его по-своему привлекательным. На телеэкранах эффектная картинка: теракт театрально драматичен, террорист ужасен, но привлекателен. Повторяется сюжет голливудского блокбастера. Эта своего рода реклама терроризма, его «сакрализация» – одна из многих перверсий нашей эпохи.
Список литературы Мифологическая репрезентация терроризма
- Эвола Ю. Языческий империализм. М., Арктогея, 1990, стр. 4-5
- Овчинникова Г. В. Терроризм. СПб., 1998, стр. 7.
- Сардар 3., Дэвис М. Почему люди ненавидят Америку? М., Проспект, 2003
- ХофмайстерХ. Теория террористической войны. Homo philosophans. СПб., Санкт-Петербургское философское общество, 2002, стр. 446
- Мелентьева Н. Размышления о терроре, «Элементы», № 7, 2000
- Бек У. От индустриального общества к обществу риска, THESIS. 1994, № 5, стр. 161-168
- Интервью с профессором Ульрихом Беком. «Журнал социологии и социальной антропологии», т. VI, № 1 (21), 2003
- Шрадер X. Глобализация, (де)цивилизация и мораль. «Журнал социологии и социальной антропологии», т. I, № 2, 1998