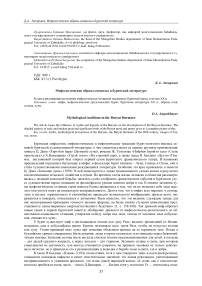Мифологические образы-символы в бурятской литературе
Автор: Ангархаев Доржи Арданович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Бурятоведение
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние мифологических воззрений на развитие бурятской прозы и поэзии ХХ в.
Мифы, мифологические представления бурят, бурятская литература хх в., образы огня, солнца, луны
Короткий адрес: https://sciup.org/148178509
IDR: 148178509 | УДК: 809.1
Текст научной статьи Мифологические образы-символы в бурятской литературе
Бурятская мифология, мифопоэтические и мифоэпические традиции бурят-монголов явились основой бурятской художественной литературы, о чем свидетельствуют ее первые крупные произведения: повесть Ц. Дона «Хиртэhэн hара» (Затмение луны), романы Ж. Тумунова «Нойрhоо hэриhэн тала» (Степь проснулась) и Х.Намсараева «Yyрэй толон» (На утренней заре), а также пьеса Н. Балдано «Дyлэн» (Пламя), постановкой которой был открыт первый сезон Бурятского драматического театра. В названиях произведений отразились бытующие в мифах и фольклоре бурят святыни – Луна, Солнце и Огонь, они и стали художественными символами рождающейся литературы. Особенно это ярко проявилось в повести Ц. Дона «Затмение луны» (1939). В ней повествуется о ломке традиционного уклада жизни в результате коллективизации сельского хозяйства в стране. Во времена, когда жизнь человека и общества рассматривалась с позиций классовой борьбы, писатель сумел отобразить драматические события в бурятском улусе художественно верно, возвысив до философского уровня понятия добра и зла. В момент затмения луны мифологическое сознание героя повести Радны проявилось в том, что он не позволил себе злые мысли и поступки в ответ на социальную несправедливость. Дело в том, что в мифах всех народов о солнце, луне и звездах «правильность и единообразие процессов человеческого воображения, прежде всего, выражаются в поверьях, относящихся к затмениям. Всем известно, что эти явления, служащие теперь для нас неоспоримыми примерами точности законов природы, на более низких ступенях цивилизации представляются олицетворением сверхъестественного бедствия» [1, с. 158-160]. Так древний миф обретает новые грани в первой бурятской повести: обобщение движется от мифологическо-религиозного до общественно-социального сознания, утверждая победу добра над злом, отводя от человека злые побуждения, очищая его душу.
У бурят существует миф о поглощающем солнце или луну Рахе, видимо, пришедший из Индии, возможно, еще в добуддийское время. Буряты поднимали шум, грозя Рахе, чтобы он отпустил солнце или луну. Темно-кровавый цвет луны при затмении объясняли кровью на ее терзаемом теле. Позже в буддийских храмах совершались богослужения, люди в юртах возжигали зула-лампады перед божницей, читали мантры. Затмение солнца после восхода считали плохим предзнаменованием для детей, в полдень – для людей среднего возраста, а перед заходом – для стариков. Затмение солнца и луны, при котором уменьшается их светимость, или иногда становится сумрачно, на древнего человека не только действовало тягостно, но и приводило его к размышлениям и выводам о борьбе тьмы и света, зла и добра.
В пьесе Н.Балдано «Пламя» (1934) огонь-пламя, хотя о нем говорится лишь в последней реплике, становится основным пафосом и имеет очистительное значение: это пламя революции, уничтожающее несправедливость и унижения прошлого, это огонь новой народной жизни. «К огню, как к очистителю, монголы прибегали очень часто, – писал Д.Банзаров. – …Богиня огня у монголов Ут… почиталась пода- тельницею счастья и богатства, но отличительное свойство ее – чистота, могущество очищать, сообщать свою чистоту» [2, с.72, 74]. В романах «Степь проснулась» и «На утренней заре» главенствует художественный символ-образ солнца как победа света над тьмой, который специально не обыгрывается, как и в пьесе Н. Балдано, присутствуя незримо для достижения сверхзадачи произведений. Зато в романах 1970-х гг. мифологические мотивы активно входят в бурятскую прозу: это, например, «Хун шубуун» (Мать-лебедица) Ц. Галанова, «Гал могой жэл» (Год огненной змеи) Ц-Ж. Жимбиева. Мифическая прародительница хоринских бурят в романе Галанова становится главной темой-идеей, в романе Жимбиева мифологическо-религиозное представление о годе огненной змеи из календарного мифа восточных народов как нельзя лучше окрашивает повествование о лихолетье Великой Отечественной войны. Также главные образы выступают не только в своем символически-обобщенном виде и могут сюжетно перекликаться с мифами о животных. Назвав произведения широко известными, доступными народу мифологическими понятиями и образами, авторы сумели сконцентрировать внимание читателей на важном идейнохудожественном смысле своих произведений.
Использование мифологических мотивов в современной бурятской литературе обретает все более разнообразный характер, особенно в поэзии. Сборники стихотворений Б. Сыренова «Тэнгэриин мандал» (Небесный свод), Г. Базаржаповой «Дыхание Хангая», изданные на рубеже ХХ-ХХI вв., являются тому подтверждением. Чуть ранее был издан сборник стихов Ч-Р. Намжилова «Арбан табанай hара» (Полнолуние). Авторы, назвав сборники обобщающим мифологическим понятием, придают им философское звучание в целом. Ряд произведений, эпических и драматических, где много образов и идей навеяно мифологическими представлениями бурят, принадлежат А. Ангархаеву. Пьеса «Полнолуние», сборник повестей «Орой сагаан одон» (Звезда над головой), роман-трилогия «Небо и Земля».
Пьеса «Полнолуние» Ангархаева – это одновременно грустная драма и светлая комедия, где герои показаны в ситуациях, на первый взгляд, обыденных: ожидание приезда из города близкого человека, надежда на крупный выигрыш по лотерейному билету, волнение перед объяснением с любимой девушкой… Каждый из них полон грустных мыслей, тайных надежд, неисполненных мечтаний. И все это происходит в момент пятнадцатой луны (арбан табанай hара) – так буряты называют полнолуние. Именно в этот период календаря, по поверьям, следует быть особенно милосердным к любому человеку, к любой твари на Земле. Одинокий старик, решившийся уйти из жизни, вспоминает этот народный закон – и отказывается от своего решения. При свете полной луны все мучительные думы и сомнения вдруг приобретают ясность. По утверждению С.С. Имихеловой, бурятский драматург приходит к философским размышлениям о ценности жизни, о необратимости времени и неотвратимости смерти. Народная мудрость в мифологических воззрениях позволяет глубоко и шире показать внутренний мир человека, его мировоззрение. И его философию, основы картины мира, представляющей в первую очередь небо и землю, космос в широком смысле [3]. По А.Чанышеву, мифологическое мировоззрение перешло к философии, а картина мира – основа мировоззрения народа [4, с.20].
В литературе вся эта цепочка: картина мира – мировоззрение – философия (высший тип мировоззрения) – ярко выявлена в представлениях писателей о «небе» и «земле», о происхождении их и космоса, также в представлениях о мироздании в целом. В романе-трилогии «Небо и Земля» А. Ангархаева (2004–2008) небо и земля – это не только космические понятия, а пространственно-временная, поэтикофилософская субстанция для объяснения множества причин развития человеческого общества, множества побудительных жизненных мотивов как у исторических лиц, так и у обыкновенных людей, современников автора. У поэта Б. Сыренова небесный свод – это, как и у Ангархаева, поэтическое представление о небе, а также о мироздании, звезда – понятие космического порядка. Хангай у Г.Базаржаповой – это земля (хотя больше всего под ним у бурят представляются тайга и горы).
Конечно, на первом этапе своего развития бурятская литература явно тяготела к фольклору и мифологии. Сегодня она выходит на более высокую ступень художественно-философского восприятия мира. Сегодня мы совершенно на другом художественно-образном уровне прочитываем улигерно-эпические строки. Например, эпизод из «Гэсэра» о рождении неба и земли прочитан так:
... Наше небо, яркое, светлое,
Мутным маревом лишь стояло, А земля наша, твердая, крепкая, Мелкой пылью вокруг витала, Вот когда это было... [5, с.16]
Это были такие времена, когда небо было туманом, мглой, а земля – мелкой пылью (в другом варианте эпоса – водицей, лужицей): не было ни солнца, ни луны, ни звезд, ни воздуха, ни света. Ученые сегодня сказали бы: данное описание соответствует теории «единого холодного газопылевого облака» – первоначала наших галактик, это современная планетная космогония. Эта «пунктирная» связь мифологического неба и земли с современным научным космогоническим воззрением дает основание внимательному прочтению мифов с высоты наших научных и культурных знаний.
В ХХ в. значение мифологического мышления не только не уменьшается, но увеличивается, считает П. Фейерабенд [6, с.226]. Как доказательство этого утверждения можно привести образы огня в бу- рятской литературе. В мифическом представлении бурят о мире огонь играл одну из первостепенных ролей. В мифологическом сознании бурят так или иначе правдиво отражалась основа нашего мироздания и основные положения космогонии. При всем различии трех миров: Высшего – Небесного, Среднего – Земного, Низшего – Подземного – люди находили их единство, одновременное существование, взаимодействие. Одним из связующих звеньев в этом служит огонь. В Высшем мире огонь – это солнце (горячий огонь), луна – холодный огонь, также звезды – холодные огоньки, в Подземном мире есть два вида огня: огонь ада и огонь, который разжигает добрый гений весной, чтобы земля нагревалась и чтобы снизу вышла наверх вся живность, зимующая в норах и порах земли.
Образом-символом огня наполнена поэзия Д. Улзытуева, Д. Дамбаева, Л. Тапхаева, Г. Базаржаповой, Г. Раднаевой, М. Чойбонова, Б. Сыренова, Ж. Юбухаева, Д. Очирова. Он разный – это огонь, горящий в родном очаге и разожженный в ночной степи или в лесу, это огонь любви или огонь, пылающий в сердце, искрящийся в глазах...
В повести В. Сыренова «Гуламтын ошон» (Огонь в очаге) – произведении о любви, борьбе за жизнь, продолжении рода, войне и мире – данный образ-символ является стержневым и передается через мировосприятие мальчика Максара, оставшегося без отца в войну. Несмотря на удары жизни, мальчику дарит силы, согревают именно родина, дом, огонь в очаге. В триптихе-поэме А. Ангархаева «Луна, Солнце и Огонь» этот ведущий образ расширяется: огонь появляется уже в трех мифических мирах, возгорается он и в качестве первоогня – «огня, возгоревшегося в сердце атома». Так мифологическое мировоззрение художественными средствами, художественно-образным мышлением смыкается в произведении с научной картиной мира, направленно воздействуя на восприятие современного человека. Человека, знающего, что, по сути, огонь – это проявление химической реакции, а горение – физико-химический процесс, при котором превращение вещества сопровождается интенсивным выделением тепла, – не удивит бурятский миф о солнце как «величайшем огне». И хотя придти к научному знанию об этом явлении как результате термоядерной реакции, об огне вообще как результате проявления электромагнитных, ядерных, гравитационных сил, которые вкупе со слабым взаимодействием элементарных частиц, составляют четыре силы, действующие в природе, человечеству пришлось пройти тысячи и тысячи лет, тем не менее обретение человечеством специальных знаний подтвердило мифологическое представление о единстве огня, этого, по сути, атомно-молекулярной природы вещества. Единство огня в «трех мирах» в мифологии бурят – продукт дедуктивного мышления. Так мифологическое мировоззрение шло к науке и философии, вернее, предфилософии, а затем оказало воздействие и на художественно-образное мышление. Как мы знаем, научно-техническая революция конца XIX – начала XX в. в русской литературе отразилась на открытиях в русской поэзии. В бурятской литературе в чем-то аналогичное развитие мы видим в поэме Даши Дамбаева «Пой, мой атом!» – одном из ее творческих достижений. Это подтверждает тезис о том, что художественное мышление, первоначало которого находится в недрах мифологического мышления, имеет не меньше достижений, чем достижения в области специальных знаний.
Если в первых произведениях бурятской художественной литературы традиционное мифологическо-религиозное мировоззрение проявлялось в «чистом виде», т.е. больше неся в себе первоначальный смысл народных представлений, то в зрелой литературе оно становится решающим. Доказательством тому является творчество латиноамериканца Маркеса и киргиза Айтматова. В бурятской литературе также происходит явление, называемое эффектом «обратного воздействия»: специальные знания дают импульс новой философской парадигме, а оно возвращает мысль к мифам, обогащая восприятие мира, окрашивая мир в неожиданные цвета, придавая смысл, ранее не высказанный.