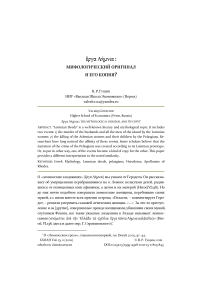ἔργα Λήμνια : мифологический оригинал и его копия?
Автор: В.Р. Гущин
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Статья в выпуске: 2 т.15, 2021 года.
Бесплатный доступ
«Лемнианские деяния» - известная литературно-мифологическая тема. Он включает в себя два события: 1) убийство мужей и всех мужчин острова лемнийскими женщинами; 2) убийство афинских женщин и их детей пеласгами. Исследователи давно заметили близость этих событий. Некоторые ученые считают, что повествование о преступлении пеласгов было создано по его лемнийскому прототипу. Или, иначе говоря, одно из событий стало своеобразной копией другого. Эта статья дает иную интерпретацию отмеченного сходства.
Греческая мифология, лемнийские деяния, пеласги, Геродот, Аполлоний из Родос.
Короткий адрес: https://sciup.org/147234451
IDR: 147234451 | DOI: 10.25205/1995-4328-2021-15-2-825-843
Текст научной статьи ἔργα Λήμνια : мифологический оригинал и его копия?
О «лемносских злодеяниях» (ἔργα Λήμνια) мы узнаем от Геродота. Он рассказывает об умерщвлении перебравшимися на о. Лемнос пеласгами детей, родившихся от похищенных ими афинянок, а затем и их матерей (Herod.VI.138). Но до них нечто подобное совершили лемносские женщины, перебившие своих мужей, а с ними вместе всех мужчин острова. «Пеласги, – комментирует Геродот, – решили умертвить сыновей аттических женщин. <…> За это-то преступление и за [другие], совершенные прежде женщинами, убившими своих мужей, спутников Фоанта, все такие ужасные злодеяния в Элладе называют лемносскими (νενόμισται ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα τὰ σχέτλια ἔργα πάντα Λήμνια καλέεσθαι)» (Herod. VI.138, здесь и далее пер. Г. Стратановского).1
Две эти истории определенно связаны между собой. И не только самим фактом преступления и местом его совершения. Связь, как мы попытаемся показать ниже, настолько тесная, что одну историю можно было бы назвать копией другой. Естественно, подобное сходство требует объяснения, которое мы намерены предложить.
«Лемносское злодеяние»: начало истории
Миф о преступлении лемносских женщин был хорошо известен в Греции. Быть может потому, что она была связана с другим известным мифологическим сюжетом – походом аргонавтов, которые имели продолжительную остановку на Лемносе.
Гомер, например, знал о походе аргонавтов и о Евнее – сыне аргонавта Ясона и Гипсипилы (Hom. Il. VII.468), известно ему и о царе Лемноса Фоанте – отце Гипсипилы (Hom.Il. XIV.230).2 Аргонавтов и «племя мужеубийственных женщин» упоминает Пиндар (Pyth. IV. 253–354). Лемносский сюжет пользовался популярностью у афинских драматургов.3 Судя по отрывкам недошедших до нас трагедий, он был хорошо известен Эсхилу. До нас дошли фрагменты двух его трагедий «Лемносские женщины» или «Лемносские мужчины» (Lemniai или Lemnioi) и «Гипсипила», которые были частью тетралогии, посвященной аргонавтам (TGF III. Fr.123 a-b; TGF IV. Fr.247-248 ).4 Беглое, но красноречивое упоминание о злодеянии лемносских женщин есть в «Хоефорах»:
«Лемносский грех –
Всем грехам грех, молвь идет.
Там женщины истребили пол мужской.
Всеми проклят этот грех!»
(Aesch. Cho. 631-634, пер. В.Иванова).
(фр.207-218).7 Популярность лемносского сюжета у комедиографов, по мнению М. Райта, объяснялась его эротической составляющей.8
Лемносский миф был хорошо известен и более поздним авторам. О нем рассказывает Аполлоний Родосский в первой песне «Аргонавтики» (Apoll. Arg. I.601-909), Аполлодор в «Мифологической библиотеке» (Apollod. I.9.17), Стаций в «Фиваиде» (Theb.V.49-498) и Валерий Флакк в «Аргонавтике» (Val. Flac.II. 77-430).
Интересующая нас история, как уже было сказано, связана с путешествием аргонавтов и их пребыванием на Лемносе, что тоже можно назвать весьма популярным мифологическим и литературным сюжетом.9 Наиболее обстоятельный рассказ о происшедшем на Лемносе содержится, пожалуй, в первой песне «Аргонавтики» эллинистического автора Аполлония Родосского (Apoll. Arg. I.601–909). Естественно, эта история не могла не подвергнуться авторской переработке, поэтому мы не всегда можем определить, какие изменения в известный мифологический сюжет внес Аполлоний.10 И все же именно эту историю мы возьмем за основу последующего анализа.
Лемносский эпизод в «Аргонавтике» определенно имеет свою внутреннюю структуру. Ф. Виан сравнивает его с трагедией, состоящей из пяти ак-тов.11 Г. Вазиларос называет его короткой трагедией с prologos, тремя актами (включая intermezzo ) и exodus. 12 Однако мы посмотрим на данное событие не с литературной точки зрения. Нас интересует событийная структура – последовательность взаимосвязанных событий, которую мы и попытаемся выявить.
В центре повествования Аполлония Родосского, естественно, путешествие аргонавтов, которые на пути в Колхиду делают остановку на о. Лемнос. За год до их прибытия там совершаются невиданные злодеяния. Вот что рассказывается об этом в «Аргонавтике» :
«В те времена там был весь народ преступлением женщин
Жестокосердным взволнован. За год до прибытья героев
Жен законных своих мужья их с презреньем отвергли –
Жаркой любовью открыто они воспылали к рабыням,
К тем, что сумели добыть, разорив лежащую против
Землю фракийцев. Страшная ярость богини Киприды
Их посетила за то, что ей в дарах отказали
Жены несчастные, неукротимые в ревности злобной:
Ибо не только они мужей и наложниц убили –
Всех мужчин истребили, чтоб в будущем кары избегнуть»
Итак, за год до прибытия аргонавтов лемносские женщины истребили всех мужчин острова. По словам, Аполлония, они не исполняли должные обряды в отношении Афродиты («в дарах отказали») и рассерженная богиня отомстила им. Женщины, рассказывает Аполлодор, стали источать немыслимое зловоние (dysosmie) (Apollod. I.9.17).13 Именно оно отвратило мужей от жен, заставив сделать своими наложницами фракийских девушек-полонянок.
А вот в трагедии Эсхила «Лемносские женщины» (или «Лемносские мужчины»), которую Ф. Виан считает важнейшим источником для Аполлония, упоминания о зловонии отсутствуют.14 Не упоминает о нем и Аполлоний. Он говорит о мужчинах, которые воспылали внезапно «жаркой любовью» (τρηχὺν ἔρον) к рабыням-наложницам.15
Как бы то ни было, охваченные ревностью жены убивают и своих мужей и наложниц с уже родившимися детьми, и всех мужчин острова. Таким образом, совершается ставшее поговоркой «лемносское зло» (lemnion kakon) – убийство женщинами всех мужчин острова.16
Остаться в живых удалось лишь правившему там царю Фоанту, отцу Гипсипилы – одной из значимых участниц рассматриваемых нами событий. По словам Аполлония, он был спасен собственной дочерью, которая теперь становится правительницей:
«Лишь одна изо всех дорогого отца пощадила
Гипсипила – Фоанта, народом он Лемноса правил.
В полом ларце она его в море спустила носиться,
На спасенье надеясь…»
Согласно другой версии Фоант был все же найден разъяренными женщинами и убит, а Гипсипила в наказание продана в рабство в Немею (Apol-lod. III,6,4; ср. Herod. VI.138, IV.145).17 О ее пребывании там, судя по сохранившимся отрывкам, рассказывается в трагедии Еврипида «Гипсипила» (TGF V. Fr.752-769)18, а также «Фиваиде» Стация. В другом варианте мифа Фоант едва не погиб, но был спасен Дионисом, сыном которого он был.19 Определенно, пожалуй, лишь то, что Фоант, как отмечает В. Маскьярди, не будет играть никакой роли в последующих событиях.20
После убийства мужчин остров стал управляться женщинами – gynai-kokratoumene , по словам Аполлодора (Apollod. I.9.17). Об этом же говорит и Аполлоний:
«Женам на Лемносе легче казалось править стадами,
Хлебоносные пашни пахать и доспехи и бронзу
На себя надевать, чем трудами Афины заняться»
История находит продолжение после прибытия на остров аргонавтов, называемых Аполлонием минийцами (Apoll.Arg.I.1.228 и сл.).22 Убийство фракиянок, которые были наложницами умерщвленных мужей, заставило лемносских женщин опасаться набегов фракийцев (Apoll.Arg.I.626–627). Поэтому появление аргонавтов не могло не вызвать опасений:
«Вот почему и теперь, увидав, как на веслах подходит
К острову быстро Арго, поспешно они за ворота
Вышли на берег Мирины, надев боевые доспехи,
На кровожадных вакханок похожи. Все говорили,
Будто фракийцы идут»
Лишь отправленный аргонавтами вестник Эфалид, обратившийся к лем-ниянкам с просьбой дать им приют, несколько разрядил обстановку. Вернувшиеся в город женщины стали держать совет о том, как им поступить. Гипсипила предложила снабдить прибывших всем необходимым, но не пускать в город. Однако ее старая няня Поликсо советует пригласить пришельцев и разделить с ними ложе, с тем, чтобы остров не обезлюдел (Apoll. Arg. I.669–690). Это решение пришлось по вкусу совещавшимся и они решили отправить к аргонавтам своего вестника – Ифиною. Она должна была предложить предводителю этого похода встретиться с Гипсипилой, ставшей правительницей острова. Ясон принимает это предложение.
«Жен законных своих вдруг стали они ненавидеть,
Начали гнать из жилищ, пребывая во власти безумья.
С теми ложе делили, кого добывали оружьем.
Дерзкие! Долго уже терпели мы это, в надежде,
Хоть и поздно, былое воротится к ним разуменье.
Тут, как всегда упреждая, второе несчастье возникло:
В доме были унижены дети законные, вместо
Них процветало чужое отродье тех пленниц внебрачных
А в завершении разговора Гипсипила предлагает аргонавтам остаться на острове, а Ясону – трон своего отца (Apoll. Arg. I.820-822).25 Ясон со своими спутниками готов на какое-то время остаться на острове, но предложение занять трон им не принимается:
«Тотчас обратно я в город вернусь, тогда по порядку
Речи твои передам моим спутникам. Власть же и остров
Пусть у тебя остаются. Я вправе себя не считаю
Их принимать»
А далее автор замечает, что сама Киприда возбудила в Ясоне и его спутниках любовную страсть к лемносским женщинам:
«Тут Киприда сама в них любовную страсть пробудила
Ради Гефеста премудрого26, чтобы и дальше мужами
В итоге аргонавты находят самый теплый прием у лемносских женщин. Судя по всему, Афродита сменила гнев на милость.27 Вслед за этим, замечает М. Детьен, прекратилось и «зловоние»:
«Возликовал город весь, душистым наполнившись дымом.
Радость несли хороводы, пиры пировали повсюду.
Больше других бессмертных в песнях они величали
И ароматами славили сына Геры с Кипридой»
Трудно сказать, сколько времени продлилась эта идиллия, если бы не Геракл. Лишь благодаря его настоятельным призывам поход продолжился и аргонавты двинулись к о. Самофракия.29 А у лемниянок родились дети и жизнь на острове продолжилась. Правда, впоследствии потомки аргонавтов – минийцы – будут изгнаны с Лемноса пеласгами. Но это уже другая история (Herod. IV. 145).30
Таковы интересующие нас события. Очевидно, что повествование имеет определенную структуру. Еще раз заметим, что упоминавшиеся выше варианты структурирования данного повествования применимы в большей мере к литературному произведению. Мы попробуем выявить основную событийную (мифологическую) канву. На наш взгляд, она выглядит следующим образом:
-
А) неподобающее поведение женщин по отношению к Афродите;
Б) «месть» Афродиты: «зловоние» (dysosmia);
-
В) «жаркая любовь» лемносских мужчин к фракийским наложницам;
Г) заносчивость родившихся от наложниц детей;
Д) ревность женщин и убийство ими мужчин;
-
Е) последствия злодеяния: без мужчин и без потомства остров был обречен стать безлюдным;
Ж) прибытие аргонавтов и любовная связь с ними лемносских женщин (милость Афродиты?).
«Лемносское злодеяние» пеласгов
А теперь поговорим о «злодеянии» пеласгов, о котором рассказывает Геродот. На наш взгляд, в его сообщениях, если их суммировать, угадывается близкая к рассмотренной выше сюжетная структура. О ней мы поговорим в конце раздела.
Сразу оговоримся, что оставляем в стороне некоторые, не имеющие отношение к рассматриваемому нами вопросу, сюжеты. Мы, в частности, оставляем без обсуждения то, что пеласги были распространены едва ли не по всей Греции и были известны многим греческим авторам, начиная с Го-мера.31 Несмотря на обилие информации, историчность пеласгов подвергается сомнению. Их принято считать мифологическим конструктом, в котором, возможно, нашла отражение информация о древнейших жителях Греции (pre-Greeks или non-Greeks).32
Начнем с того, что древние авторы по-разному характеризуют пеласгов. Филохор, например, отождествляет их с тирренами (этрусками?) и называет пиратами (FGrH 328 F 100).33 Фукидид считает пеласгов, проживавших на Акте (Халкидика), варварами (Thuc. IV.109).34 Он отождествляет их с лемнос- скими тирренцами, которых в свою очередь древние авторы нередко сближают с этрусками.35
Некоторые авторы (например, Гекатей) считают пеласгов цивилизованным народом (Herod. VI. 137 = FGrH I F.127).36 Гекатей подчеркивает культурное превосходство пеласгов над жителями Аттики. Когда пеласги пришли в Афины (или Аттику) афиняне «отдали свою собственную землю у подошвы Гиметта для поселения пеласгам в награду за то, что те некогда возвели стену вокруг акрополя. Когда же афиняне увидели, что эта, прежде плохая и ничего не стоящая земля теперь прекрасно возделана, их охватила зависть и стремление вновь овладеть этой землей» (Herod. VI. 137).37 За этим последовало изгнание пеласгов, которое Гекатей считает несправедливым.
Другую версию изгнания пеласгов Геродот называет афинской: «Пеласги, жившие у подошвы Гиметта, оттуда причиняли оскорбления афинянам. Дочери афинян постоянно ходили за водой к источнику Эннеакрунос (ведь в те времена у афинян и прочих эллинов еще не было рабов). Всякий раз, когда девушки приходили за водой, пеласги с заносчивым пренебрежением оскорбляли их. Но этого им было еще мало. В конце концов пеласги даже были пойманы на месте преступления, когда хотели напасть на Афины. … Итак, изгнанные пеласги переселились в другие земли, и в том числе на Лемнос» (Herod.VI.137).
Пожалуй, можно говорить не столько о различии приведенных Геродотом характеристик, сколько о двойственности (амбивалентности) пеласгов, которые соединяли в себе черты «культурных героев» с первобытной «дикостью» и «необузданностью». Эта двойственность, по мнению К. Сурвину-Инвуд, была особенностью мифологического нарратива.38
Итак, пеласги были изгнаны афинянами. Заметим в этой связи, что они изгонялись и с других территорий, например, из Фессалии (e.g. FGrHist 10 F.16; Apollod. Epit. 6.15).39 Для прибывших на Крит из Фессалии пеласгов была свойственна, по словам Плутарха, крайняя сексуальная агрессия (Plut. Mor. 296b, ср.
247 a–b)40. К. Сурвину-Инвуд считает тему изгнания одним из значимых структурных элементов данного мифа.41 Пеласги, по наблюдению Р. Фаулера, изображаются в мифах как вечные изгнанники, люди без родины.42
Оказавшись на Лемносе, пеласги, называемые Филохором синтиями (FGrHist 328 F 100)43, изгоняют миниев – потомков аргонавтов. «Потомки аргонавтов были изгнаны пеласгами, которые похитили афинских женщин из Браврона, с Лемноса. Они прибыли оттуда морским путем в Лакедемон <….>» (Herod. IV. 145; ср. Paus. VII.2.2.).44 А произошло это, по словам Павса-ния, немногим ранее так называемого ионийского переселения.45
Однако поселившиеся на Лемносе пеласги пожелали отомстить афинянам. «Пеласги, – по словам Геродота – хорошо знали, когда афиняне справляют празднества, и, снарядив 50-весельные суда, устроили засаду афинским женщинам во время празднества Артемиды в Бравроне. Похитив отсюда много женщин, они отплыли с ними на Лемнос и там сделали их своими наложницами» (Herod.VI.138).46
Похищение женщин, участвовавших в ритуалах, связанных с Артемидой Бравронией, можно считать отдельной мифологической историей. Р. Осборн вообще связывает эту историю с возникновением культа Артемиды Бравронской.47 Есть смысл поговорить об этой истории, поскольку она имеет отношение к рассматриваемому нами сюжету.
Артемида Бравронская почитается в Аттике с Микенских времен, а храм, возможно, был построен при Писистрате.48 Браврон – место, где совершались регулярные ритуалы в честь Артемиды, в которых принимали участие девочки от десяти до пятнадцати лет.49 Возможно, речь идет о девочках из аристократических семей, участвовавших в обрядах, связанных с наступлением переходного возраста, или инициацией.50
Упоминание об этом обряде можно найти в отрывке из комедии Аристофана «Лисистрата», где хор женщин сообщает об основных этапах жизни юных афинянок:
«Семь годков было мне,
В сумке шерсть я несла.
В десять лет зерно молола для владычицы святой.
В платье алом, во Бравроне, я медведицей была
(κᾆτ᾽ ἔχουσα τὸν κροκωτὸν ἄρκτος ἦ Βραυρωνίοις):.
Дочь отцовская,
Потом я шла с корзиной (κἀκανηφόρουν),
Спелых смокв гроздь неся»
(Aristoph. Lysistr. 641–647, пер.А.Пиотровского).
Интересующий нас ритуал получил название arkteia и был связан с переодеванием в медведиц (arktoi), сопровождавшимся облачением в упоминаемый Аристофаном krokotos (e.g.: Schol.Ar.Lys. 645; Hesych. s.v. arkteia ; Brau-roniois ).51 Вряд ли есть необходимость погружаться в детали данного ритуала. Заметим лишь, что он, по мнению исследователей, был связан с переходом из одной возрастной категории в другую – от девочек к девушкам.52 Это было подготовкой к будущему браку и деторождению.53
Исследователи полагают, что ритуальное переодевание девочек в медведиц символизировало их первоначальную «дикость», которое в ходе ритуала завершалось последующим «укрощением».54
Стоит ли в таком случае удивляться, что похищенные афинянки и родившиеся у них дети будут подчеркивать свою враждебность по отношению к похитителям. Девушки, не прошедшие до конца эту процедуру, остались, по словам Р. Осборна, «неукрощенными» (wild).55 «Когда у этих женщин родилось много детей, – рассказывает Геродот, – они стали учить младенцев аттическому языку и обычаям. Дети их не желали даже общаться с детьми пеласгийских женщин, и если мальчик-пеласг бил кого-нибудь из них, то все остальные сбегались на помощь и отстаивали своих. Кроме того, они считали даже, что имеют право на власть над детьми пеласгов и далеко превосходили их силой» (Herod. VI.138). И тогда пеласги, посовещавшись, решили умертвить родившихся от наложниц детей, а с ними и их матерей (Herod. VI. 138).56 В связи с этим убийством Геродот и вспоминает о так называемых Лемносских злодеяниях.
Как и в случае с лемносскими женщинами, злодеяние не осталось без последствий. «После убиения пеласгами своих детей и жен, – продолжает Геродот, – земля их вовсе перестала плодоносить. Их женщины не были так плодовиты, как раньше. А также и скот. Голод и бездетность заставили их, наконец, отправить послов в Дельфы и просить об избавлении от этих бед. Пифия же повелела им дать удовлетворение афинянам, какое те сами им присудят» (Herod. VI.139).
Мы оставляем в стороне детали последовавшего затем заочного спора между афинянами и пеласгами. Первые в качестве условия поставили передачу им острова, пеласги выдвинули встречные – невыполнимые, по их мнению, условия. В конце концов, история заканчивается завоеванием острова Мильтиадом (Herod. VI.140). Любопытно, что выдвинутое оракулом требование окажется не выполненным. Получение оракула и завоевание Лемноса разделяют, как замечает Дж. Фонтенроуз, не менее 300 лет.57
Такова вкратце событийная канва. Попробуем выделить в ней основные смысловые (структурные) элементы:
-
А) неподобающее поведение пеласгов в Аттике (согласно афинской версии);
Б) месть афинян и изгнание пеласгов;
-
В) похищение афинянок и превращение их в наложниц;
Г) враждебное отношение к пеласгам родившихся от наложниц детей и их матерей;
Д) убийство детей, а затем и их матерей;
Е) последствия злодеяния;
Ж) обращение к Дельфийскому оракулу.
Оригинал и копия?
Таковы истории обоих «Лемносских злодеяний». Современные исследователи полагают, что в том и другом случае перед нами мифологические сюжеты, связанные с негреческим (или догреческим) населением Афин и Лемноса.58 В. Буркерт датирует появление сюжета о преступлении лемносских женщин 700 г. до н. э,59 а само оно нередко связывается с ритуалом
«нового огня», что было связано с почитанием на острове Гефеста (Philost. Heroikos. 53.5–7).60
Приблизительно тем же временем можно датировать и появление пеласгов на Лемносе. Л. Фикучьелло обращает внимание на то, что Гомер знает о Фоанте, но не знает о населявших остров пеласгах.61 Однако их история в отличие от истории лемносских женщин не была связана с каким-либо ритуалом. Повествование Геродота о пеласгах – часть его рассказа о завоевании афинянами Лемноса. Этим некоторые исследователи нередко и объясняют упоминание о них.62
Любопытно в этой связи то, что в изложении Геродота мифологические события, относящиеся к «незапамятным» временам, оказываются хронологически приближенными к более поздним и даже современным событиям, как будто предшествуя им. Создается впечатление, что похищение афинянок и завоевание Лемноса разделяет небольшой исторический промежуток.63
Сказанное выше позволяет заметить тесную связь сюжета о пеласгах с историей лемносских женщин, которую по какой-то причине проигнорировал Геродот. И это несмотря на то, что совершенные лемниянками злодеяния хорошо известны афинским драматургам. Вряд ли дело только в морализаторстве Геродота, делающем эту связь очевидной, а потому и не требующей пояснения.64
По мнению К. Сурвину-Инвуд, мифы тесно связаны друг с другом темой взаимоотношений полов. В основе обоих сюжетов – нарушение брачного ритуала – иллегитимация брака (illegitimate marriage), в ее терминологии.65 Связь этих событий, полагает исследовательница, видели и в древности. В дошедших до нас в отрывках трагедии Еврипида «Гипсипила» есть намек на афинский ритуал arkteia как ритуал аккультурации женщин.66 Можно сказать, что лемносские женщины подобно украденным пеласгами афинянкам не прошли arkteia, а потому остались необузданными (wild).67
Близкие идеи ранее высказывал М. Детьен. По его мнению, лемниянки действовали вопреки своей женской природе. В древних обществах брак для девушек был тем же, чем война для юношей. Отрицание брака означало отрицание женского начала, альтернатива ему – война.68
Мы полагаем, что упомянутые мифы действительно взаимосвязаны, но не только темой взаимоотношения полов. Затрагиваемые в них мифологические сюжеты, на наш взгляд, не сводятся к гендерной тематике. Заметим также, что рассматриваемые истории не сводятся к свойственной некоторым мифам схеме: «преступление-наказание-искупление».69 Они имеют более сложную структуру, совпадая в главном, хотя и рознятся в деталях.
К. Сурвину-Инвуд прозорливо замечает, что один миф есть трансформация другого.70 Создается впечатление, что мифы фотографически, если так можно сказать, связаны друг с другом – как позитив и негатив, как оригинал и копия. В одном случае активными участниками событий становятся женщины, в другом – мужчины. Оригиналом при этом выглядят действия лемносских женщин.
Такой тип взаимосвязи предполагает В. Маскьярди, который считает, что история пеласгов создана по лекалам мифа о Гипсипиле (forgé sur le modèle du mythe d’Hypsipyle).71 Он датирует появление мифа началом V в. до н. э. и считает его следствием завоевания афинянами Лемноса.72 В подтверждение этой точки зрения им отмечаются сходные сюжетные элементы, объединяющие оба мифа.
Истории одинаково начинаются: с нечестья по отношению к Афродите – в одном случае и недружественных действий по отношению к афинянам – в другом. Разница в том, что на взаимоотношения пеласгов и афинян, возможно, накладывались межэтнические различия.73 Последствия не заставляют себя ждать: жены отвергнуты мужьями, а пеласги изгоняются (пункты a и a1 в схеме В. Маскьярди).74 Далее следуют ответные действия: женщины, посовещавшись, решают умертвить всех мужчин острова (b), которые предпочли им наложниц (d1), а пеласги похищают афинянок и превращают их в наложниц.75 Поскольку похищенные были участниками ритуала, связанного с Артемидой, можно говорить о нечестии по отношению к этой богине.76 В обоих случаях родившиеся от наложниц дети вызывают опасения и умерщвляются (b1). Так совершаются «лемносские злодеяния» – ἔργα Λήμνια, не оставленные богами без последствий (stérilité - пункты c и c1).77 Впрочем, ситуация на Лемносе разрешается прибытием аргонавтов и рождением от них детей (d и e).78 А пеласги обращаются к оракулу Аполлона.
В предыдущих разделах мы также попытались выявить событийную структуру рассматриваемых историй, которую теперь можно выразить в виде таблицы.
Пп. Лемносские женщины Пеласги
А Неподобающее поведение женщин по отношению к Афродите
Б «Месть» Афродиты: «зловоние»
(dysosmia)
В «Жаркая любовь» лемносских муж чин к фракийским наложницам
Г Заносчивость родившихся от наложниц детей
Д Ревность женщин и убийство ими мужчин
Е Последствия злодеяния
Ж Прибытие аргонавтов, «милость
Афродиты»
Неподобающее поведение пеласгов в Аттике
Месть афинян и изгнание пеласгов
Похищение афинянок и превращение их в наложниц
Враждебное отношение к пеласгам родившихся от наложниц детей и их матерей
Убийство детей, а затем и их матерей
Последствия злодеяния
Обращение к Дельфийскому оракулу
В этой таблице можно обнаружить совпадение практически по всем выделенным нами пунктам (от А до Е). Существенные расхождения обнаруживаются лишь в последнем пункте (Ж): «милость» Афродиты в одном случае и обращение к Дельфийскому оракулу – в другом. Заметим в этой связи, что упоминаемое Геродотом обращение к оракулу вплетено в историю завоевания острова афинянами, что позволяет считать этот компонент мифа его позднейшей доработкой.79
Значит ли сказанное выше, что перед нами оригинал и его копия? Обратим внимание на то, что миф о Гипсипиле и преступлении лемносских женщинах имеет целую серию аналогов (и не только греческих).80 В качестве примера достаточно упомянуть легенду о Данаидах (e.g.: Eurip.Hec.886 sq.).81 Что же в таком случае считать оригиналом?
Мы сомневаемся, что история пеласгов была смонтирована по лекалам мифа о злодеяниях лемниянок. Рассмотренные мифологические истории, несмотря на некоторые отличия в деталях, можно назвать архетипическими . Мифологическая история пеласгов, даже с учетом позднейшей переработки и встраивания в исторический контекст, на наш взгляд, отражает определенный мифологический архетип , став (как и миф о Гипсипиле и лемниян-ках) одним из его вариантов. Поэтому вряд ли оправдано считать происшедшее ранее событие – убийство лемносскими женщинами своих мужей – оригиналом, а действия пеласгов – копией. Вряд ли одно есть производное от другого, как полагает упоминавшийся выше В. Маскьярди. На наш взгляд, это – самостоятельные события, в основе которых лежит общий мифологический архетип . При этом не столь важно, что они произошли в одном месте и в одно и то же, в сущности, (мифологическое) время. Быть может, поэтому Геродот и не увидел их сходства.
Список литературы ἔργα Λήμνια : мифологический оригинал и его копия?
- Аристофан (2000) Комедии. Фрагменты. Москва.
- Немировский, А.И. (1983) Этруски. От мифа к истории. Москва.
- Aristofan (2000) Komedii. Fragmenti. Moscow (in Russian).
- Baragwanath, E. (2008) Motivation and Narrative in Herodotus. Oxford.
- Baragwanath, E. (2012) “Mythic Plupast in Herodotus,” in J. Grethlein, C.B. Krebs (eds.)
- Time and Narrative in Ancient Historiography. The “Plupast” from Herodotus to Appian. Cambridge, 35–56.
- Bérard, J. (1949) “La question des origins étrusques,” Revue des Études anciennes 51.3-4, 201–245.
- Bérard, J. (1949) “La question des origins étrusques,” Revue des Études anciennes 51.3-4, 201–245.
- Burkert, W. (1970) “Jason, Hypsipyle and New Fire at Lemnos. A Study in Myth and Ritual,” Classical Quarterly 20, 1–16.
- Burkert, W. (1983) Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth. Berkeley / Los Angeles.
- Claus, J.J. (1993) The Best of Argonauts. The Redefinition of the Epic Hero in Book I of Apollonius’s Argonautica. Berkeley / Los Angeles.
- Cole, S.G.(1998) “Domesticating Artemis,” in S. Blundell, M. Williamson (eds.) The Sacred and the Feminine in Ancient Greece. London / New York, 24–38.
- Detienne, M. (1994) The Gardens of Adonis. Spices in Greek Mythology. Princeton.
- Dorati, M. (2005) “Lemnion Kakon,” in R.Raffaelli et alii (eds.) Vicende di Ipsipile da Erodoto a Metastasi. Urbino, 23–54.
- Dowden, K. (1989) Death and the Maiden. Girls’ Initiation Rites in Greek Mythology. London / New York.
- Dumezil, G. (1924) Le Crime des Lemniennes. Rites et legends du monde égéen. Paris.
- Evans, J.A.S. (1963) “Note on Miltiades’ Capture of Lemnos,” Classical Philology 58, 168-170.
- Faraone, C.A.(2003) “Playing the bear and the fawn for Artemis: female initiation or substitute sacrifice?” In D.B. Dodd, C.A. Faraone (eds.) Initiantion in Ancient Greek Rituals and Narratives. New Critical Perspectives. London, 43–68.
- Ficuciello, L. (2013) Lemnos. Cultura, storia, archeologia, topografia di un’isola del Nord-Egeo. Roma.
- Finkelberg, M. (2005) Greeks and Pre-Greeks. Aegean Prehistory and Greek Heroic Tradition. Cambridge.
- Fontenrose, J. (1978) The Delphic Oracle. Its Responses and Operations with a catalogue of Responses. Berkeley / Los Angeles.
- Fowler, R.L. (2013) Early Greek Mythography. Vol. II. Commentary. Oxford.
- Gantz, T. (1993) Early Greek Myth. A Guide to Literary and Artistic Sources. Baltimore /London.
- Harding, P. (2008) The Story of Athens. The fragments of the local chronicles of Attica. London.
- Hornblower, S. (1991–1996) A Commentary on Thucydides. Oxford. Vol. 1–2.
- Jackson, S. (1990) “Myrsilus of Methymna and the Dreadful Smell of the Lemnian Women,” Illinois Classical Studies 15.1, 77–83.
- Lloyd, A.B. (1975) Herodotus. Book II. Commentary 1-98. Leiden.
- Martin, R.P. (1987) “Fire on Mountain: “Lysistrata” and the Lemnian Women,” Classical Antiquity .6.1, 77–105.
- Masciardi, V.(2004) “Hypsipile et ses soeur. Notes d’analyse structural et historique,” in S. des Bouvrie (ed.) Myth and Symbol II: Symbolic Phenomena in Ancient Greek Culture. Bergen, 221–241.
- McInerney, J.(2014) “Pelasgians and Leleges: Using the Past to Understand Present,” in J. Ker, C. Pieper (eds.) Valuing the Past in the Greco-Roman World. Leiden / Boston, 25–55.
- Myres, J.L. (1907) “A History of the Pelasgian Theory,” Journal of Hellenic Studies 27, 170–225.
- Nemirovskiy, A.I.(1983) Etruski. Ot mifa k istorii. Moscow (in Russian).
- Osborne, R. (1985) Demos. The Discovery of Classical Attika. Cambridge.
- Parker, R. (1996) Athenian Religion: A History. Oxford.
- Perlman, P. (1983) “Plato Laws 833C-834D and the Bears of Brauron,” Greek, Roman, and Byzantine Studies 24, 113–128.
- Perlman, P. (1989) “Acting the She-Bear for Artemis,” Arethusa 22.1, 111–133.
- Sale, W. (1975) “The Temple-legends of the Arkteia,” Rheinische Museum 118, 265–284.
- Scott, L. (2005) Historical Commentary on Herodotus Book 6. Leiden-Boston.
- Simon, E.(1983) Festival of Attica. An Archaeological Commentary. Madison.
- Sourvinou-Inwood, C. (1988) Studies in girls’ transitions. Aspects of the arkteia and age representation in Attic iconography. Athens.
- Sourvinou-Inwood, C. (2004) “Reading a Myth: Reconstructing its Constructions,” in S. des Bouvrie (ed.) Myth and Symbol II: Symbolic Phenomena in Ancient Greek Culture. Bergen, 141–179.
- Sourvinou-Inwood, C.(2003) “Herodotus (and others) on Pelasgians: Some Perceptions on Ethnicity,” in P. Derow and R. Parker (eds.) Herodotus and His World. Oxford, 103–144.
- Vasilaros, G. (2017) “ The Lemnian Deeds: A Tragic Episode in the Argonautica 0f Apollonius Rhodius,” in A. Fountoulakis, A. Markantonatos, G. Vasilaros (eds.). Theatre World. Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy. Berlin / Boston, 277–294.
- Vian, F., Delage, É. (1974) Apollonios de Rhodes. Argonautiques. Tome 1. Chants I-II. Paris.
- Wesselman, K. (2011) Mythische Erzählstrukturen in Herodotos ‘Historien’. Berlin / Boston. Wright, M. (2019) The Lost Plays of Greek Tragedy London / New York. Vol. 2.