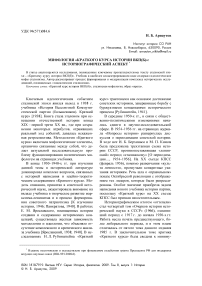Мифология «Краткого курса истории ВКП (б)»: историографический аспект
Автор: Арнаутов Никита Борисович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются исследования, посвященные ключевому пропагандистскому тексту сталинской эпохи - «Краткому курсу истории ВКП(б)». Учебник в наиболее концентрированном виде содержал идеологические мифы сталинизма. Автор рассматривает процесс формирования и модернизации комплекса исторических исследований, посвященных «энциклопедии сталинизма».
"краткий курс истории вкп(б)", сталинская мифология, образ "врага"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737017
IDR: 14737017 | УДК: 94(571)084.6
Текст научной статьи Мифология «Краткого курса истории ВКП (б)»: историографический аспект
Ключевым идеологическим событием сталинской эпохи явился выход в 1938 г. учебника «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс» [1938]. Книга стала эталоном при освещении отечественной истории конца XIX – первой трети XX вв., где при сохранении некоторых атрибутов, отражавших реальный ход событий, давалась искаженная ретроспектива. Методология «Краткого курса» включала мифологические элементы, органично связанные между собой, что делает актуальной исследовательскую проблему функционирования политических мифологем на страницах учебника.
В конце 1930–1940-х гг. при изучении данной темы в исторической литературе доминировал комплекс вопросов, связанных с историей написания и идейно-теоретическим содержанием «Краткого курса». Модель описания, принятая в советской исторической науке, акцентировала внимание на вкладе учебника в творческое развитие марксизма-ленинизма и в процесс формирования советского патриотизма [К изучению истории, 1946; Панкратова, 1940]. В работах Е. М. Ярославского, посвященных истории создания и содержанию исторических концепций, существовала жесткая зависимость методологии и идеологии, что объясняло отсутствие комплексного и критического анализа учебника [Ярославский, 1938; 1940]. В исследованиях Н. Л. Рубинштейна «Краткий курс» трактовался как основное достижение советских историков, завершившее борьбу с буржуазными концепциями исторического процесса [Рубинштейн, 1941].
В середине 1950-х гг., в связи с общественно-политическими изменениями начались сдвиги в научно-исследовательской сфере. В 1954–1956 гг. на страницах журнала «Вопросы истории» развернулась дискуссия о периодизации советской истории. В ходе нее И. Б. Берхиным и М. П. Кимом была предложена трехэтапная схема истории СССР, противопоставлявшая «ленинский» период «сталинскому» [О периодизации…, 1954–1956]. На XX съезде КПСС (февраль 1956), помимо развенчания «культа личности», прозвучали конкретные указания историкам. Речь шла о «правильном» показе Октябрьской революции с отображением тех лидеров, которые были репрессированы. Особое значение приобрела задача написания нового учебника истории партии, поскольку «Краткий курс» на XX съезде КПСС был признан несостоятельным.
Историографическим итогом «оттепели» стал четвертый том «Очерков истории исторической науки в СССР» (1966), охвативший период с 1917 г. до начала 1930-х гг. Работа несла печать предшествующего, более либерального периода, и в этом плане отличалась от пятого тома данного издания 1985 г. В заключительном томе критика «Краткого курса» была сведена к миниму- му, так как в 1960–1970-е гг. выявилось стремление нового руководства к частичной реанимации сталинской идеологии [Очерки истории…, 1985. Т. 5]. В наиболее законченном виде эта тенденция проявилась в учебнике по историографии под редакцией И. И. Минца. В нем утверждалось, что «Краткий курс» содержал серьезные теоретические и фактические ошибки, обусловленные как общим уровнем развития историко-партийной науки второй половины 1930-х гг., слабой изученностью ряда важных сторон деятельности и внутренней жизни партии, так и влиянием культа личности И. В. Сталина» [Историография…, 1982. С. 113].
В период «перестройки» «Краткий курс» становится объектом конкретно-исторического анализа. Доминирующим направлением данного историографического этапа становятся изучение роли И. В. Сталина в подготовке «Краткого курса» и мифология «культа личности» на страницах учебника. Одним из первых исследователей идеологических конструкций учебника стал Н. Н. Маслов, уделявший основное внимание образу «вождя» на страницах учебника [Маслов, 1988; 1990; 1996]. Ряд исследователей характеризовали причину проявления образа «героя» как попытку создания эффективных рычагов воздействия на общественное сознание за счет реконструкции определенных элементов архаического мышления, одним из которых была мифологема «вождя» [Зеленов, 2002; Сталин в работе…, 2002; Илизаров, 2002]. Идеологический образ, созданный на принципах мифологического сознания, явился, по мнению многих исследователей, специфическим свойством «Краткого курса».
Наряду с анализом политических функций «Краткого курса» определилась линия, связанная с изучением содержательной стороны идеологического пособия – обстоятельств написания, сталинской редактуры, использования приемов исторической фальсификации [Маньковская, Шарапов, 1988; Пихоя, 2004]. Историко-научная традиция осмысления «Краткого курса» сложилась преимущественно в стиле критики сталинской интерпретации исторических событий. Авторы анализировали учебник как конъюнктурное и сфальсифицированное историческое сочинение. Возможности этого подхода были исчерпаны, что стимулировало необходимость появления нового истолкования идеологических канонов сталинского периода. Перед исследователями учебника встал вопрос выбора сюжета, который бы открывал дополнительный спектр еще не сформулированных и не решенных проблем. В связи с этим ряд авторов подошли к изучению «Краткого курса» с точки зрения его языка и стилистики.
На современном историографическом этапе произошло смещение интереса исследователей от роли образа И. В. Сталина на страницах учебника к дополнительным мифологемам, в частности образу «врага» и альтернативной архаической символике [Гусева, 2003; Шестов, 2005]. В. Н. Бухарев рассматривал книгу как «пик идеологических форм сталинизма». В этом контексте автор квалифицировал «Краткий курс» в качестве «священной» книги, используя сравнения с Библией. По его мнению, учебник вводил новые каноны лингвокультуры сталинского периода, формируя своеобразно соединявшиеся обороты и интонации, «несущие революционно-классовый заряд с риторикой державной торжественности» [Бухарев, 2001. С. 320].
Дальнейшее рассмотрение сакральной сущности учебника отмечалось в работе Ю. В. Шатина. Автор подчеркивал явно мифологический характер учения о коммунистическом будущем человечества (своеобразная модификация христианской мифологемы Царства Божия на земле) и учения о мессианском предназначении рабочего класса [Шатин, 2003]. Отмечая их сакральное значение, автор выделил базовые экзистенциальные ценности, пропагандируемые в учебнике: «народ», «партия», «социализм», «Родина», «марксизм» (в качестве «единственно правильного учения»), «государство рабочих и крестьян». Основные идеологические конструкции – вера в грядущее торжество мировой революции и ненависть к капиталистическому окружению противопоставлялись религии, которая именовалась «поповщиной», и демократическим ценностям, которые именовались «псевдогуманизмом».
Сюжеты «Краткого курса» рассматривались как повествования о формировании некоего мирового порядка, в котором факторы прогресса и упорядоченности партийного строительства доминировали в борьбе с элементами хаоса в лице вездесущих «вра- гов». Исследования семантики, лексики и стилистики «Краткого курса» как литературного произведения были проведены в работах М. Вайскопфа и М. Головиньского, которые определили учебник как «священную историю коммунизма» – мифическое сказание, написанное в соответствии с канонами традиционного мифотворчества [Вайскопф, 2002; Головиньский, 1996]. Исторический нарратив «Краткого курса» в полной мере отражал манеру сталинского дискурса: «следовать генеральной линии – значит, постоянно балансировать между двумя крайностями – “перегибами” или “извращениями”, которые, в свою очередь, прослеживаются к соответствующим “уклонам” и затем к тому или иному вражескому заговору» [Вайскопф, 2002. С. 111]. В качестве ключевой мифологемы автор выделил понятие «отклонение от генеральной линии» («уклон»). По определению М. Вайскопфа, «уклон» не просто являлся выражением враждебной линии, но наделялся дьявольской магнетической силой, благодаря чему малейшее отклонение приводило в действие механизм формирования образа «врага».
Как известно, одним из важнейших средств консолидации и мобилизации социума является противопоставление социальных групп по признаку «мы – они» [Поршнев, 1979. С. 79]. Сформулированная Б. Ф. Поршневым дихотомия, в «Кратком курсе» приобрела новую историко-политическую оболочку. Фактически сюжетная линия учебника могла существовать только благодаря мифу о перманентной борьбе «светлых» образов с «темными». Этот миф формировал образ «первого в мире социалистического государства трудящихся», которое имело пантеон, состоящий из основоположников идеологии, некрополь и историческую мифологию. Подлинная история, согласно этой традиции, начиналась только с момента революции 1917 г., а все, что было до этого, изображалось как многовековое царство мрака и несправедливости [Фельдман, 2006; Коновалова, 1998].
Большинство авторов, исследовавших лингвистические особенности «Краткого курса», пришли к выводу об особом использовании стилевых ресурсов языка, связанных с изобретением и бесконечным повторением определенных магических формул. Развертывание, повторение и варьирование сходных экспрессивных средств создают иллюзию усиления доводов «Краткого курса». Воздействие книги на читателя осуществляется апелляцией к наиболее архаическим слоям мышления, отразившимся в клишированных структурах языка. Таким образом, междисциплинарный анализ «Краткого курса» приводит к мысли, что использование указанных ресурсов риторики и поэтики носит в нем не случайный, но целенаправленный характер, превращающий историческое письмо в способ создания глобального политического мифа.
MYTHOLOGY OF «THE BRIEF COURSE OF VCP(B) HISTORY»: HISTORIOGRAPHIC ASPECT