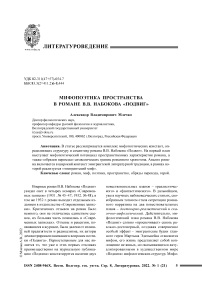Мифопоэтика пространства в романе В.В. Набокова "Подвиг"
Бесплатный доступ
В статье рассматривается комплекс мифопоэтических констант, определяющих структуру и семантику романа В.В. Набокова «Подвиг». На первый план выступает мифопоэтический потенциал пространственных характеристик романа, а также «обрядов перехода» символических границ романного хронотопа. Анализ романа включается в широкий контекст эмигрантской литературной традиции, в рамках которой реализуется «эмигрантский миф».
Роман, миф, поэтика, пространство, обряды перехода, герой
Короткий адрес: https://sciup.org/149143796
IDR: 149143796 | УДК: 82-311(47+57)-054.7
Текст научной статьи Мифопоэтика пространства в романе В.В. Набокова "Подвиг"
Впервые роман В.В. Набокова «Подвиг» увидел свет в четырех номерах «Современных записок» (1931. № 45–47; 1932. № 48), в том же 1932 г. роман выходит отдельным изданием в издательстве «Современные записки». Критических отзывов на роман было немного, они не отличались единством сценок, их большая часть появилась в «Современных записках». Отзывы и рецензии, появившиеся в журнале, были далеки от излишней предвзятости и радикализма, их авторы демонстрировали внимание к вопросам поэтики «Подвига». Первостепенным для нас является то, что уже в этих первых откликах преимущественно на журнальную публикацию «Подвига» констатируется наличие двух повествовательных планов – «реалистического» и «фантастического». В дальнейшем, уже в научных набоковедческих статьях, своеобразным топосом стала сегрегация романного нарратива на два повествовательных плана – достоверно-реалистический и сказочно-мифологический. Действительно, мифологический план романа В.В. Набокова «Подвиг» словно «просвечивает» сквозь реально-достоверный, создавая совершенно особый эффект – эмигрантские будни главного героя Мартына Эдельвейса становятся мифом, его жизнь представляет собой воплощение не явных, но оказывающихся актуализированными в художественном мире «Подвига» мифологических структур. Мифо- логический план повествования заявляет о себе уже на стадии поэтики заглавия романа, у которого были два рабочих названия. Одно из них – «Воплощение» – указывает на ведущий романный мотив осуществления личности, ее высокого предназначения, о чем прямо говорится в авторском предисловии к книге: «Осуществление – это фуговая тема его <Мартына> судьбы; он из тех редких людей, чьи “сны сбываются”. Но само осуществление неизменно пропитано мучительной ностальгией. Воспоминание о детской мечте смешивается с ожиданием смерти. Рискованный путь в запретную Зоорландию, который в конце концов выбирает Мартын (никакого отношения к набоковской Зембле!), только продлевает до нелогичного конца ту сказочную тропинку, которая петляла среди нарисованных деревьев на картине, висевшей на стене детской. “Осуществление” – такое название, вероятно, еще больше подошло бы роману...» [8, с. 72–73].
Несомненна жесткая корреляция этого варианта с еще одним – «Романтический век». Осуществление героической судьбы предполагает не только, как мы увидим, совершенно определенную локализацию, но и четкую хроностатику. Это название призвано отнести все происходящее в романе в, казалось бы, позабытое время героических деяний , но опять-таки не в смысле непосредственного его изображения, а в плане воскрешения этих героических традиций сегодня, в далеком от какого бы то ни было героизма времени. Об этом говорил и сам Набоков в предисловии к роману: «Рабочее – определенно очень привлекательное – название книги, позже замененное на более точное “Подвиг” (“доблестный поступок”, “возвышенное деяние”), было “Романтический век” (“романтические времена”), которое я выбрал во многом потому, что досыта наслушался, как западные журналисты называют наше время “материалистическим”, “практическим”, “утилитарным” и т. п., но главным образом потому, что целью моего романа, единственного моего целенаправленного романа, было подчеркнуть тот трепет и то очарование, которые мой юный изгнанник находит в самых обыденных удовольствиях, также как и в кажущихся бессмысленными приключениях одинокой жизни» [8, с. 71].
Мифологическая составляющая этого воскрешения героического времени обретает непосредственную проявленность в еще одном варианте заглавия романа, указанном Б. Бойдом, – «Золотой век» [11, с. 353]. В этом случае Набоков прямо указывает на первостепенную значимость именно мифологического повествовательного плана. «Золотой век» – век героев, созидающих и «очищающих» мир, – возрождается сегодня, на наших глазах, в толще повседневности эмигрантского быта, в суете, казалось бы, ничем не примечательных дней. Таким образом, в парадигме авторской интенциональности педалируется символическое возвращение к истокам , к славному времени первоначала , полному героических деяний, свободному от современного утилитаризма и меркантильного «здравого смысла».
Весь комплекс этих значений аккумулирован в окончательном варианте названия романа. Объясняя свой выбор заглавия для англоязычной версии книги, Набоков пишет, что ему «несомненно известно, что очевидный перевод слова подвиг – “exploit”, и именно под этим названием его “Подвиг” учитывается библиографами, но стоит однажды почувствовать в “exploit” глагол “использовать” – и нет больше “подвига”, бесполезного славного деяния. Поэтому автор выбрал окольный перевод “glory” (“слава”), менее буквальный, но гораздо более полно передающий смысл оригинального заглавия, со всеми его естественными ассоциациями, раскинувшими ветви под бронзовым солнцем. Здесь есть слава возвышенного приключения и незаинтересованного достижения; слава этой земли и ее заплатанного рая; слава личной отваги; слава лучезарного мученика» [8, с. 73].
Точно так же, как полисемия английского «glory» позволяет активизировать значение «рай», так и русское слово «подвиг», помимо своего основного значения «доблестный поступок, дело, или важное, славное деяние», имеет значение «путь, путешествие, поездка, движение». Прохождение этого пути подразумевает одновременное движение по двум параллельным векторам – духовному и физическому, а также спорадическое пересечение границ между локусами различных континуальных порядков. Регуляция этого процесса, в свою очередь, обеспечивается семантикой обрядов перехода, функциональная природа которых рассмотрена в одноименном классическом труде А. ван Геннепа. Наше обращение к этому феномену продиктовано, с одной стороны, неизбежностью ритуальных вкраплений в нарративные структуры «эмигрантского мифа», с другой – гомогенной природой обрядов перехода и «переходных эпох», к которым, бесспорно, относится русская эмиграция «первой волны».
Обряды перехода, в свою очередь, также подразумевают не подлежащую сепарации гомогенность плана содержания и плана выражения – «материальной» и «идеальной» сторон. Для обозначения этого единства ван Геннеп прибегал к понятию «материализованного перехода», имея в виду символическую материализацию действий и интенций сугубо ментального порядка. Так, с одной стороны, выступая в качестве обрамляющей композиционной рамки и ведущего мотива романа, и, с другой, являя собой инвариантный символ, так или иначе структурообразующую функцию несет образ перехода героем границы. Первый раз мы сталкиваемся с ним уже в самом начале «Подвига», где описывается картина, висящая над кроватью маленького Мартына Эдельвейса: «Над маленькой, узкой кроватью, с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах <...>, висела на светлой стене акварельная картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним, – и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая: “Что же, ты думаешь, случилось дальше?” – был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. <...> Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излуки тропинки, пересеченной там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей» [9, с. 99–100].
Тем самым сразу вводится ведущий романный мотив – одновременно выступающий и в качестве темы, и в качестве центрального образа-символа – пути или перехода границы , путешествия, пересечения пространств, погружения в от-граниченный, «иной» локус. Но что еще более важно, Набоков уже в начале романа предоставляет читателю его нарративный код, ту категориальную рамку, что позволила бы свети все значения романа к единому смысловому и образному знаменателю, обеспечила возможность единовременного прочтения текста сразу по нескольким повествовательным векторам. Уже в этом отрывке Набоков моделирует повествовательное измерение, в которое – вместе с начинающим свой путь по лесной тропинке Мартыном – вступает читатель, понимая, что романный мир «Подвига» столь же реалистичен, сколь мифологичен и даже сказочен. Мартын уже в начале повествования переходит в особое сказочное пространство, в специфический сказочный мир, где действуют свои (жанровые) законы и правила, в частности характерологические каноны, регламентирующие статус сказочного / мифологического героя .
Мартын, заметим, сразу же позиционируется Набоковым не просто как «герой романа», наделенный соответствующим функ-циалитетом, но в первую очередь как вариант культурного героя, исключительный статус которого на протяжении большей части повествования выражен имплицитно, в начале же романа он артикулируется через интертекстуальную и номенологическую поэтику текста. В рамках интертекстуальной поэтики мы можем различить явное структурирование набоковского романа по модели волшебной сказки. Так, уже в вышеприведенном пассаже мы читаем о своеобразном табу (возникшем, впрочем, лишь в воображении маленького Мартына) со стороны матери на путешествие в лес: «Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и кар- тинкой в книжке: по его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала, и потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном <...>, быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку – что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка, – Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз перед ним» [9, с. 100].
Именно нарушение «запрета, связанного с отлучкой» (В.Я. Пропп) лежит в основе завязки волшебной сказки. «Старшие каким-то образом знают, что детям угрожает опасность, – пишет В.Я. Пропп. – Самый воздух вокруг них насыщен тысячью неведомых опасностей и бед. Отец или муж, уезжая сам или отпуская дитя, сопровождает эту отлучку запретами. Запрет, разумеется, нарушается, и этим вызывается, иногда с молниеносной неожиданностью, какое-нибудь страшное несчастье <...>. С катастрофой является интерес, события начинаются развиваться» [10, с. 37]. Парадоксальным образом сюжет «Подвига» представляет собой подготовку к этому нарушению, нам не дается и изображения этой следующей за нарушением катастрофы, а лишь ее ощущение, предугадывание. На протяжении всего повествования Мартын бессознательно готовит себя к главному в своей жизни переходу в запретный лес из детства, его жизнь – это словно тренировка перед этим судьбоносным и решающим переходом. Поэтому в «Подвиге» педалируется статус Мартына как героя-странника , путешественника, причем как странник он выступает на сказочно-мифологическом уровне повествования, на достоверно-реалистическом же Мартын подается как изгнанник , судьба которого повторяет судьбы тысяч молодых русских эмигрантов.
Но мы не должны забывать о предельно плотной синхронизации обоих повествовательных пластов, а значит, и сказочно-мифологическом статусе образа молодого эмигранта, когда он – вписанный во вневременной метафизический континуум «вечных ценностей» – и является сказочным странником, ищущим дорогу домой. «Сочинение Набокова, – пишет Н. Букс, – прочитывается как роман-миф. Текст моделируется по образцам “Одиссеи”
и “Энеиды” – двух канонических произведений о странствующем герое. <...> Образ Мартына, главного героя, странствующего изгнанника, мыслится как отражение образов Одиссея и Энея. Подобно Энею, Мартын покидает берег родины весной. Изгнание обоих вынужденное. <...> В романе “Подвиг”, как и в поэмах Гомера и Вергилия, в образе главного героя символическая значимость преобладает над образной конкретностью» [1, с. 72, 74].
В жизни Мартына изгнание не представляется центральным переходным событием, оно остается пусть самым заметным, но все же лишь «одним из» многочисленных переходов, совершаемых героем. Он постоянно в пути, постоянно пересекает разнообразные пространственные целостности: «Сколько раз на большой дороге своей мечты он, в бауте и сапогах с раструбами, останавливал то дилижанс, то грузный дормез <...>» [9, с. 109]; «... одной из самых сладостных и жутких грез Мартына была темная ночь в пустом, бурном море, после крушения корабля <...>» [9, с. 110]; «Эта искристая стезя в море так же заманивала, как некогда тропинка в написанном лесу...» [9, с. 111]; «Вот с того года Мартын страстно полюбил поезда, путешествия, дальние огни и раздирающие вопли паровозов в темноте ночи, и яркие паноктикумы мгновенных полустанков, с людьми, которых не увидишь больше никогда» [9, с. 114]; «“Ах, как славно”, – шептал про себя Мартын, дослушав звон до конца, и продолжал путь, любимую свою прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинками в еловой глуши» [9, с. 129]; «Он уставился глазами в небо, как некогда, когда в коляске, темной лесной дорогой, возвращались восвояси из имения соседа, и совсем маленький, размаянный, готовый вот-вот уснуть, Мартын откидывал голову, смотрел на небесную реку, между древесных клубьев, по которой тихо плыл. Он подумал: где еще в жизни будет так – как тогда, как сейчас – смотреть на ночное небо, – на какой пристани, на какой станции, на каких площадях?» [9, с. 133]; «У Мартына создалось впечатление, что Дарвин уже давно, несколько лет, в университете, и он пожалел его, как жалел всякого домоседа. <...> Стремясь в нем возбудить зависть, Мартын нахрапом ему рассказал о своих странствиях...» [9, с. 139];
«“Хорошо путешествовать, – проговорил Мартын. – Я хотел бы много путешествовать”» [9, с. 158]; «...но хотя он знал, что она его ждет, Мартын вдруг переменил направление и, покинув тропу, пошел по вереску наверх» [9, с. 159]; «Затем, в поезде, в немецком вагоне, где в простенках были небольшие карты, как раз тех областей, по которым данный поезд не проходил, – Мартын наслаждался путешествием, ел шоколад, курил, совал окурок под железную крышку пепельницы <...>» [9, с. 162] и др.
Своеобразной квинтэссенцией этих многочисленных путешествий, переходов и пересечений различных пространственных континуумов служит носящий во многом «знаковый» характер размышления Мартына о своей тяге к странствиям: «Стоило прикрыть глаза и вообразить футбольное поле или, скажем, длинные, коричневые, гармониками соединенные вагоны экспресса , которым он сам управляет, и постепенно душа улавливала ритм, блаженно успокаивалась, как бы очищалась , и, гладкая, умащенная, соскальзывала в забытье. Был это иногда не поезд , пущенный вовсю, скользящий между ярко-желтых березовых лесов и далее, через иностранные города , по мостам над улицами, и затем на юг, сквозь внезапно светающие туннели , и пологим берегом вдоль ослепительного моря , – это был иногда самолет , в вихре снега берущий крутой поворот , или просто тропинка , по которой бежишь, бежишь , – и Мартын, вспоминая, подмечал некую особенность своей жизни: свойство мечты незаметно оседать и переходить в действительность, как прежде она переходила в сон: это ему казалось залогом того, что и нынешние его ночные мечты, – о тайной, беззаконной экспедиции , – вдруг окрепнут, наполняется жизнью, как окрепла и сделалась плотью греза о футбольных состязаниях, которой он, бывало, так длительно, так искусно наслаждался, когда, боясь дойти слишком поспешно до сладостной сути, останавливался подробно на приготовлениях к игре : вот натягивает чулки с цветными отворотами, вот надевает черные трусики, вот завязывает шнурки крепких бу-цов» (курсив наш. – А. М. ) [9, с. 177].
Здесь важно отметить сразу несколько аспектов. Во-первых, тяга к странствиям есть неотъемлемое свойство самой души Мартына, и его реально-достоверные путешествия есть прежде всего проекция этой внутренней необходимости поиска и опасности. Во-вторых, здесь отчетливо артикулируется героизм как основа мироощущения Мартына и, наконец, явное предпочтение подготовки к приключению самомý опасному предприятию, но в то же самое время постоянное его ожидание, поиск того главного, самого важного, самого «благородного» и достойного самопожертвования подвига, ради которого и стоит жить и своеобразной репетицией которого выступают многочисленные «переходные» странствия героя.
И, как видно, «ночная мечта» Мартына о «тайной, беззаконной экспедиции», согласно особой логике (романтической) метаморфозы мартыновских грез готова превратиться в осязаемую явь, готова облечься в плоть, стать осязаемой и по-настоящему опасной в своей реально-достоверной ипостаси. Таким образом, в какой-то момент читатель понимает, что все предыдущее повествование представляет собой описание подготовки именно к этому центральному героическому поступку Мартына, его личному подвигу , предощущение которого никогда не покидало героя романа, и лишь в определенной ситуации и в определенное время он вдруг понимает, что за действие он должен совершить. По большому счету, Мартын ищет такое «приключение», которое наиболее адекватным образом смогло бы отразить его «героический идеал», отвечало бы высоким требованиям духа «славного героизма» былых эпох, сполна соответствовало бы представлениям Мартына о своей миссии избранника .
Так, поздним вечером, сидя в освещаемой свечами гостиной, Мартын чувствует отчетливый «укол», пока не слишком ясное «указание» на свое предназначение: «В окна и в дверь напирала с террасы теплая, черная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. <...> Наску-ча книгой, Мартын потянулся и вышел на террасу. Было очень темно, пахло сыростью и ночными цветами. <...> Очертания гор был неразборчивы, и в складках мрака дрожало там и сям по два, по три огонька. “Путеше- ствие”, – вполголоса произнес Мартын, и долго повторял его слово, пока из него не выжал всякий смысл...» (курсив наш. – А. М.) [9, с. 132].
Этот «смутный призыв» указывает не просто на интертекстуальную связь, как считает Н. Букс, с моделирующими «Подвиг» древними героическими поэмами, но на дублирование экзистенциального пути, который суждено пройти всякому мифологическому герою. Именно этот путь стал предметом широко известного исследования Дж. Кэмпбелла «Тысячеликий герой». «Первая стадия мифологического пути героя, – пишет американский ученый, – которую мы обозначили как “зов к странствиям” – означает, что судьбы позвала героя и перенесла центр его духовного тяготения за пределы его общества, в область неизвестного. Эта судьбоносная сфера, таящая как опасности, так и сокровища, может быть представлена по-разному: как далекая страна, лес, подземное, подводное или небесное царство, таинственный остров, высокая горная вершина или как состояние глубокого погружения в сон; но это всегда оказывается место удивительно меняющихся и полиморфных созданий, невообразимых мучений, сверхчеловеческих свершений и невыразимого восторга. Герой может сам, по своей собственной воле, отправиться в свои странствия, как Тесей, услышавший по прибытии в город своего отца, Афины, ужасную историю о Минотавре; или же он может быть послан или унесен в свое приключение какой-нибудь благожелательной или злонамеренной силой, как случае Одиссея <...>. Примеры можно приводить до бесконечности, со всех уголков света» [7, с. 68]. Корреляция этих каузальных традиций «мономифа» (Дж. Кэмн-белл) со стратегией набоковского повествования, как хорошо видно, более чем отчетлива. Но она не исчерпывается лишь этой «первой стадией мифологического пути героя».
Сюжетно-композиционная структура героического «мономифа», по Кэмпбеллу, представлена нарративной триадой исход-иници-ация-возвращение. Каждая из этих стадий по-своему инкорпорирована в текст «Подвига». Казалось бы, третья, завершающая стадия в нем не актуализирована – ведь Мартын так и не возвращается из своего последнего путешествия. Вместе с тем нельзя не признать нарративную завершенность указанного триединства. С учетом этого смыслового рисунка в «Подвиге» ясно представлены все три стадии мифологического пути.
Исход в романе репрезентирован картинами исхода из любимой России, России, в случае с Набоковым (Мартыном), своего детства. Это первый крупный переход , совершаемый героем «Подвига», и о его переломной для жизни Мартына важности говорит несомненная автобиографическая консистенция – как и Набоковы, семья Мартына тоже бежит из осажденного большевиками Крыма: «Несмотря на обилие багажа, безобразного, спешно собранного, с веревками вместо ремней, было почему-то впечатление, что все эти люди уезжают налегке, случайно; формула дальних странствий не могла вместить их растерянность и уныние, – они словно бежали от смертной опасности. Мартына как-то мало тревожило, что оно так и есть, что вон тот спекулянт с пепельным лицом и с каратами в нательном поясе, останься он на берегу, был бы и впрямь убит первым же красноармейцем, лакомым до алмазных потрохов. И берег России, отступивший в дождевую муть, так сдержано, так просто, без единого знака, который бы намекал на сверхъестественную продолжительность разлуки, Мартын проводил почти равнодушным взглядом, и только когда все исчезло в тумане, он вдруг с жадностью вспомнил Адреиз, кипарисы, добродушный дом, жители которого отвечали на удивленные вопросы неусидчивых соседей: “Да где ж нам жить, как не в Крыму?”» [9, с. 115].
Эмигрантский период жизни Мартына в сложившейся герменевтической ситуации можно интерпретировать как своеобразную инициацию героя, период его испытаний, время инициальной «подготовки» к своему «настоящему» подвигу, когда, наконец, раз и навсегда утвердится его подлинно героический статус. Именно в этой парадигме можно рассмотреть «боксерскую дуэль» между Мартыном и Дарвином, более, правда, напоминающую избиение первого соперника вторым: «Бабах в ухо: Мартын не удержался на ногах, и, пока он валился, Дарвин успел его еще раз хватить, и Мартын сильно сел на траву, уши- бив копчик, но тотчас вспрянул и налетел. Несмотря на боль в голове, на глухоту, на багровый туман в глазах, Мартыну казалось, что он причиняет Дарвину больше увечий, чем тот ему, но Джон, знаток бокса, уже ясно видел, что Дарвин только входит во вкус, еще немножко, и младший будет уложен. Мартын, однако, чудом выдержал решительный напор Дарвина, состоявший из звучных заушин, кои зовутся раскатами, и успел еще раз брякнуть его по рту, и случайно коснувшись своих белых штанов, оставил на них красный отпечаток. Он дышал с присвистом, мало уже соображал, и то, что было перед ним, называлось уже не Дарвин, – и вообще не носило человеческого имени, – а было только розовой, скользкой, быстроходной громадой, по которой следовало шмякать из последних сил. Ему удалось очень плотно и ладно ударить куда-то – куда – он не видел, – то тотчас множество кулаков, справа, слева, куда ни сунься, продолжало его обрабатывать, он упрямо искал в этом вихре брешь, нашел, забарабанил по какой-то чмокающей мякине, почувствовал вдруг, что у самого отлетает голова, и, поскользнувшись, повис на Дарвине, зажимая сдвинутыми локтями его мокрые, горячие руки» [9, с. 188–189]. Явное педалирование физических мучений Мартына позволяет нам включить этот эпизод – с учетом, конечно же, его аппликативной природы – «в группу обрядов, которые путем очевидного для всех приема (ампутации, раздробления, членовредительства – неважно какой части тела) изменяют социальный статус человека» [2, с. 70].
Вообще эпизод с поединком инкорпорирован в более широкую сцену с явной символической атрибутикой, позволяющей, с одной стороны, представить этот сюжетный элемент в качестве мифоритуального эквивалента, в другой же – увидеть в нем очевидный репрезентант «мифа о возвращении». Речь идет о речной прогулке, предпринятой Мартыном с университетскими друзьями на излете кембриджского срока. Как увидим, символические конституенты сцены интертекстуально относят нас не только к инициальному мифологическому комплексу, но к прежде всего греческой – и хорошо Набокову знакомой – мифологической традиции перехода в иной мир. У Р. Грейвса мы встречаем следующее ее описание: «Когда тени умерших спускаются в Аид, они минуют рощу из черных тополей на берегу Океана. Для каждой из них благочестивыми родственниками припасена монетка, которая, согласно традиции, кладется под язык покойного. Тени таким образом получают возможность заплатить Харону – скупому перевозчику, который должен перевезти их на утлой лодчонке через реку Стикс. Эта ненавистная для всех река ограничивает Аид с запада, принимая в себя воды Ахерона, Фле-гетона, Кокита, Аорнита и Леты, являющихся ее протоками. <...> Попавшие в Аид оказывается на безрадостных Асфоделевых лугах <...>. Любой из уходящих предпочел бы участи правителя всего Аида участь раба безземельного крестьянина. Одна радость для них – напиться живой крови: производя такие возлияния, они ощущают себя живыми. За этими лугами лежит Эрет с дворцом Гадеса и Пер-сефоны. Все, кто приближается к дворцу, видят слева от него белый кипарис, отбрасывающий тень в Лету, куда души простых смертных приходят пить. Души прошедших инициацию избегают пить из Леты, предпочитая пить из реки Памяти, куда отбрасывает тень белый тополь» [3, с. 87].
В анализируемом эпизоде «Подвига» большая часть символических значений, указанных Грейвсом, – причем с сохранением их сигнификативного, образного потенциала – откровенно дублируется. Например, скользящая «между цветущих берегов» «плотоподобная шлюпка» с Вадимом-Хароном (легший на реку туман лишь подчеркивает следование традиции изображения инфернального паромщика), отражающиеся в воде каштаны или белая ежевика (как корреляты белых тополя и кипариса), «дымные луга», речной с притоками поток, церемониал достижения берега и т. д. Ср.: «И вот, плывя по реке под низкими цветущими ветвями, Мартын вспоминал, проверял, испытывал разными кислотами последнюю встречу с ней <...>. На юте этой плотоподобной шлюпки с плоским, неглубоким днищем и тупым носом стоял Вадим и налегал на упорный шест. Потрескавшиеся бальные туфли сверкали от брызг, на остром лице было внимательное выражение, – он любил воду, он священнодействовал, искусно, плавно орудуя шестом, вынимая его из воды ритмическими перехватами и снова на него налегая. Шлюпка скользила между цветущих берегов; в прозрачно-зеленоватой воде отражались то каштаны, то млечные кусты ежевики; иногда падал лепесток, и было видно в воде, как из глубины спешит к нему навстречу отражение, и вот – сошлись. <...> Вадим, поглощенный навигаторским таинством, ничего, по-видимо-му, не слышал. После трех-четырех поворотов Дарвин попросил его пристать. Уже близился вечер. Река в этом месте была пустынна. Вадим направил шлюпку на зеленый мысок, выдававшийся из-под навеса листвы. Мягко стукнулись. Дарвин первый выскочил на берег и помог Вадиму причалиться» (курсив наш. – А. М.) [9, с. 185–187].
Символическая инкрустация эпизода «ритуального прощания» с Кембриджем, как видим, совершенно явственно дублирует идентичный рисунок древнегреческих интертекстов «Подвига». Корреляция видна даже на уровне поведения и поступков героев. Душам, пьющим в Аиде кровь, соответствует улыбающийся «окровавленным ртом» Дарвин, а ритуалу утоления жажды водами одной из инфернальных рек соответствует обряд омовения Дарвина и Мартына: «Вадим пошел вперед, отыскал укромный затончик; Дарвин помог Мартыну хорошенько обмыть лицо и торс, а потом Мартын сделал для него то же, – и оба тихо и участливо спрашивали друг у друга, где болит, не жжет ли вода» [9, с. 189].
Но главное то, что дублированию подвергается не только символический антураж переходного ритуала, но и его семантический функционал. Опираясь на классификации ритуалов А. ван Геннепа, Р. Жирар говорит о принципиальном функциональном единстве двух основных и, казалось бы, столь различных ритуальных разрядов – обрядов стабильности и обрядов перехода. «Как мы видим, – пишет Жирар, – нет принципиальной разницы между обрядами перехода и обрядами, которые мы выше назвали обрядами стабильности. Модель у них общая. У ритуального действия всегда одна и та же цель – полная неподвижность, а если она недостижима, то хотя бы минимум подвижности. Согласиться на перемену – значит приоткрыть дверь, за которой бродит насилие и хаос. <...> Обряды перехода дают неофитам почувствовать, что их ждет, если они нарушают запреты, если пренебрегут ритуалами и отвернутся от религии. Благодаря этим обрядам, все новые поколения проникаются почтением к страшным делам священного, участвуют в религиозной жизни с нужным рвением, изо всех сил трудятся над укреплением культурного порядка. Физическое испытание оказывает принудительное воздействие, не сравнимое ни с какой рациональной аргументацией; именно оно внушает представление об общественнорелигиозном порядке как о чрезвычайном благе. Обряды перехода служат мощнейшим орудием религиозного и общественного консерватизма» [5, с. 376–378]. Это переосмысление Жираром классических ритуаловедчес-ких традиций в очередной раз помогает нам понять кризисную природу интерпретируемых в интересующих нас коммуникативных условиях текстах. Указанная парадигма позволяет с небывалой ясностью увидеть превентивную ценность проходимой Мартыном инициации, позволяет демонстрировать будущую судьбу героя, уготованные ему роковые испытания и возможную гибель.
Нетрудно заметить, что (в рамках указанной парадигмы) будущая участь героя вписана в более широкий метаисторический контекст: хрупкий космос эмигрантского бытия готов рухнуть – своим возвращением на утраченную родину Мартын, по выражению Жирара, «приоткрывает дверь, за которой бродит насилие и хаос». Переход границы между этими локусами и является кульминационным событием в романе Набокова. Пройдя «кембриджскую инициацию», Мартын получил доступ к «нижнему миру», получил санкцию на свой главный и столь желанный подвиг . Им является предпринимаемое героем романа рискованное и, скорее всего, трагическое путешествие в Советскую Россию.
Параллелизм реально-достоверного и сказочного-мифологического планов романного нарратива в описании последнего перехода Мартына Эдельвейса достигает точки экстремы. Он становится удивительно отчетлив – герой словно одновременно совершает путешествие сразу в двух мирах, двух измерениях, причем это не столько подразумевается, сколько вновь и вновь подчеркивает- ся Набоковым. Сразу ставится принципиальный знак равенства между превратившейся в антипространство Советской Россией и сказочно-мифологической Зоорландией, выдуманной «склонными к фантазиям» Мартыном и Соней Зилановой. Игра в Зоорландию полностью соответствует общей атмосфере романа, проникнутой тем политическим духом, который царил в годы написания «Подвига» в эмиграции.
При этом отечественную постреволюционную действительность Набоков здесь вписывает в более широкую пантоталитарную традицию. К примеру, он относит ее к истокам утопической традиции – к «Государству» Платона с его аннигиляцией искусств и научного знания. Ряд продолжает аллюзия на Джироламо Савонароллу («Саван-на-рыло») – флорентийского проповедника XV в., религиозного фанатика и противника светской литературы и искусства. «Бурые рясы» и «бритоголовость», в свою очередь, – указывают на пуританскую традицию с ее нетерпимостью, фанатизмом и отвержением культурных «прелестей».
Основную семантическую нагрузку этих репрезентаций несет полиморфный символический образ вымышленной страны Зоорлан-дии, само название которой комментаторы «Подвига» объясняют со всей этимологической тщательностью: «Совмещение русской приставки «за» и английского и французского orle (от лат. оrlula – «край, граница, рубеж, черта») и «ландии» может быть интерпретировано как «Зарубежье», «Запределье», страна по ту сторону границы, за краем. Приблизительно то же значение можно получить и при более правильном членении: «зоор» (именно так произносится древнееврейское zuwr – «быть иностранным, чужим, профанным, подлым») и «ландия» – дают «чужеземье» и «Подляндию». Разумеется, подобное прочтение не исключает дополнительных ассоциаций с «зоологией» (в Зоорландии явно победило зоологическое начало) и с «орлом» (особенно если учесть, что в скандинавском мифе орел находится за верхней границей мира: то есть «за орлом» будет значить опять-таки «за пределами»). Кроме этого, если вспомнить стихотворение Гумилева «Орел» (1909), экспедиция в Зоорландию – это будет путь «за орлом», то есть уход в смерть и одновременно в бессмертие, в «великолепную могилу» [4, с. 736–737].
Отметим включение Зоорландии в целую серию выдуманных Набоковым стран, каждая из которых по-своему моделирует писательское художественное пространство. Это Ultima Thule – из одноименной первой главы незавершенного романа «Solus Rex», выступающая как гомогенная ей Зембла из романа «Бледный огонь» (1961), и Падукград (Синестербад) – столица тоталитарной страны в центре Европы из набоковского романа «Bend Sinister» (1946), и Антитерра из романа 1968 года «Ада, или страсть», и даже Россия призрачного будущего из «Приглашения на казнь».
Как и в «Приглашении на казнь», перед нами некий обобщенный образ, некий инвариант совершенно конкретных ненавистных Набокову режимов, но в то же время моделируется он по четким мифологическим лекалам. Набоков не случайно дает недвусмысленную топографическую атрибуцию Зоорландии – «северная» страна, о которой «упоминают норманны». Можно говорить о сакрализации зоорландского пространства, когда его можно атрибутировать как иной мир, соотносимый с Иным Миром (сидом) кельтской мифологической традиции. У кельтов античной эпохи «слово sid “мир” в самом деле обозначало некий мир, параллельный нашему, который, будучи отличным и отдаленным от него, тем не менее соприкасается или смыкается с ним, позволяя избранным или призванным существам в любой момент проникнуть в Инобытие. Его обитателями, по определению, являются боги и обожествленные герои» (курсив наш. – А. М.) [6, с. 188]. Обретающий статус героя Мартын неизбежным образом должен выйти за пределы ставшего привычным, обжитого, освоенного, «светского» пространства, пересечь границу между мирами и оказаться внутри новой для него сферы, сферы сакрального, где его героический статус будет наконец подтвержден. Именно в этой ситуации и становится возможной сакрализация зоорландского пространства. Как пишет А. ван Геннеп, «сакральное не сакрально само по себе, но может оказаться таковым в определенных случаях. Человек, который живет в своем доме, в своем клане, жи- вет в светском мире, но как только он отправляется в путешествие и оказывается в качестве чужака вблизи неизвестного лагеря, то оказывается уже в сфере сакрального» [2, с. 16–17]. Выступая сакральным по отношению к переходному состоянию Мартына, зор-ландский локус идентифицируется Набоковым не просто как мир иной, но как нижний мир, переход границы которого составляет структурообразующий элемент сюжета таких важнейших интертекстов «Подвига», как «Одиссея», «Энеида» и «Божественная комедия».
Переход Мартыном зоорландской / советской границы отчетливо моделируется как пересечение инфернальной границы, в данном случае – границы леса как традиционного чужого, смертного пространства. Мифологический герой перед совершением подвига подвергается обряду инициации, во время которого ему наносятся символические увечья и который интерпретируется как временная смерть . Его символическим коррелятом в «Подвиге», как мы убедились, выступает боксерский поединок Мартына и Дарвина. Но, как показывает В. Пропп, таким инициальным пространством может выступать и лес : «Этот лес никогда ближе не описывается. Он дремучий, темный, таинственный, несколько условный, не вполне правдоподобный. <...> Связь обряда посвящения с лесом настолько прочна и постоянна, что она верна и в обратном порядке. Всякое попадание героя в лес вызывает вопрос о связи данного сюжета с циклом явлений посвящения» [10, с. 57]. Учитывая это, мы можем предположить, что путешествие Мартына в Советскую Россию (а на другом уровне прочтения – в инфернальную Зоорлан-дию) не завершится гибелью героя, а послужит еще одной инициальной ступенью.
Реализация заявленной двуплановости повествования своей точки экстремы достигает в финале романа, когда у Мартына складывается окончательный план своего подвига. Образ Зоорландии настолько плотно накладывается на образ Советской России, что смыслового зазора между сигнификатом и денотатом практически не остается. Центральным образом, несущим эту символическую нагрузку, является образ родственницы Зилановых, девочки-подростка Ирины, сошедшей с ума в результате «революционных ис- пытаний»: «Мартын знал: четырнадцатилетняя Ирина, тогда тихая, полная девочка, склонная к меланхолии, оказалась с матерью в теплушке, среди всякого сброда. Они ехали бесконечно, – и двое забияк, несмотря на уговоры товарищей, то и дело щупали, щипали, щекотали ее и говорили чудовищные сальности, и мать, улыбаясь от ужаса, беспомощно старалась ее защитить и все повторяла: “Ничего, Ирочка, ничего, ах, пожалуйста, оставьте девочку, как вам не совестно, ничего Ирочка...” – и совершенно так же вскрикивала и причитала, и совершенно так же держала дочь за голову, когда, уже в другом вагоне, поближе к Москве, солдаты – на полном ходу – вытаскивали в окно ее толстого мужа, который чудом подобрал семью на засыпанной снегом станции. Да, он был очень толст и истерически смеялся, так как застрял в окне, но наконец напиравшие густо ухнули, и он исчез, и мимо пустого окна мчался слепой снег. Затем был у Ирины тиф, и она непонятно как выжила, но перестала владеть человеческой речью и только в Лондоне научилась по-разному мычать и довольно сносно произносить “ма-ма”. Мартын никогда как-то Ириной не занимался, давно привыкнув к ее дурости, но теперь что-то его потрясло, когда Валентина Львовна сказала: “Вот у них в доме есть постоянный живой символ”. Зоорландская ночь показалась еще темнее, дебри ее лесов еще глубже, и Мартын уже знал, что никто и ничто не может ему помешать вольным странником пробраться в эти леса, где в сумраке мучат толстых детей и пахнет гарью и тленом» (курсив наш. – А. М.) [9, с. 207–208].
То есть абстрактное, умозрительное – пусть и носящее столь естественный для натуры Мартына характер – желание и предчувствие подвига получает свою реализацию лишь при одном условии – при столкновении героя с конкретным злом, с обретшей ситуативную плоть и осязаемую «жизнь» (ср.: «Вот у них в доме есть постоянный живой символ») жестокостью Хаоса . Лишь при этом условии сказка способна стать близкой реальностью, а, казалось бы, далекая от сказочного мира эмигрантская действительность способна становиться творимой легендой, рождающимся мифом.
Список литературы Мифопоэтика пространства в романе В.В. Набокова "Подвиг"
- Букс, Н. Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах Владимира Набокова / Н. Букс. – М.: НЛО, 1998. – 268 с.
- Геннеп, А. ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов / А. ван Геннеп. – М.: Вост. лит., 2002. – 198 с.
- Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – М.: Прогресс, 1992. – 624 с.
- Долинин, А. Примечания к роману «Подвиг» / А. Долинин, Г. Утгоф // Набоков В.В. Русский период. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 3. – СПб.: Симпозиум, 2006. – С. 714–742.
- Жирар, Р. Насилие и священное / Р. Жирар. – М.: НЛО, 2000. – 400 с.
- Леру, Ф. Кельтская цивилизация / Ф. Леру, К.-Ж. Гюйонварх. – СПб.: Культ. инициатива, 2001. – 271 с.
- Кэмпбелл, Дж. Тысячеликий герой / Дж. Кэмпбелл. – М.: Рефл-бук: АСТ ; Киев: Ваклер, 1997. – 384 с.
- Набоков, В. В. Предисловия к романам / В. В. Набоков // В.В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. – СПб.: Изд-во Рус. христ. гуманит. ин-та, 1997. – С. 46–107.
- Набоков, В. В. Русский период. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 3 / В. В. Набоков. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 848 с.
- Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. – 365 с.
- Boyd, B. Vladimir Nabokov: The Russian Years / В. Boyd. – New Jersey: Princeton University Press, 1990. – 607 р.