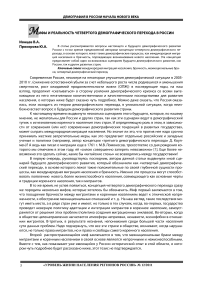Мифы и реальность четвертого демографического перехода в России
Автор: Ионцев В.А., Прохорова Ю.А.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Демография в России начала нового века
Статья в выпуске: 12 (166), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы настоящего и будущего демографического развития России с точки зрения предложенной авторами концепции четвертого демографического перехода, в основе которого лежат такие демографические процессы, как международная миграция населения и брачность, порождающие возникновение нового населения. Эта концепция представляет собой один из возможных сценариев будущего демографического развития, как России, так и других развитых стран.
Международная миграция населения, брачность, межнациональные браки, четвертый демографический переход
Короткий адрес: https://sciup.org/143181438
IDR: 143181438
Текст научной статьи Мифы и реальность четвертого демографического перехода в России
Современная Россия, несмотря на некоторые улучшения демографической ситуации в 20052010 гг. (снижение естественной убыли за счет небольшого роста числа родившихся и уменьшения смертности, рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ)) в последующие годы, на наш взгляд, продолжит «скатываться» в сторону усиления демографического кризиса со всеми вытекающими из него негативными количественными и качественными последствиями для развития населения, о которых ниже будет сказано чуть подробнее. Можно даже сказать, что Россия оказалась, если исходить из теории демографического перехода, в уникальной ситуации, когда неизбежно встает вопрос о будущем демографического развития страны.
К настоящему времени выдвинуто несколько сценариев этого будущего, которые, по нашему мнению, не желательны для России и других стран, так как эти сценарии ведут в демографический тупик: к исчезновению коренного населения этих стран. И определяющую роль в этом, в зависимости от сохранения (или нет) современных демографических тенденций в развитых государствах, может сыграть международная миграция населения. Но значит ли это, что против нее надо срочно принимать жесткие запретительные меры, как это предлагают отдельные российские и западные ученые и политики (например, автор концепции «третьего демографического перехода» Д. Коулмен)? А ведь как писал о миграции еще в 1761 г. М.В. Ломоносов, трехсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, её «силою совершенно запереть невозможно» [1]. Еще более невозможно это сделать сейчас, какие бы «китайские стены» не возводились между государствами!
В первую очередь, руководствуясь последним, авторы данной статьи выдвинули иной сценарий будущего демографического развития, который обозначили как «четвертый демографический переход», в основе которого лежат такие положительные по своей глубинной сущности процессы, как международная миграция населения и брачность. Именно эти процессы могут способствовать появлению нового, более жизнеспособного населения, совмещающего как основные черты и традиции коренного населения, так и мигрантов.
В то же время, не успев появиться, концепция четвертого демографического перехода сразу же породила несколько мифов, которые хотелось бы обозначить. Миф первый заключается в том, что поощрение брачности между мигрантами и коренным населением ведет к этнической напряженности, к обострению межнациональных отношений и т. д. На наш взгляд, такие последствия могут иметь место, а в ряде стран уже и имеют, но только в тех случаях, когда, во-первых, государство проводит неверную политику адаптации и интеграции мигрантов в коренное население, самоустраняется от решения этих проблем (политика создания миграционных анклавов). Во-вторых, когда в обществе целенаправленно нагнетается атмосфера неприязни, ненависти, ксенофобии в отношении мигрантов. В-третьих, в результате незнания, непонимания среди большей части населения сути данных проблем. Надо подчеркнуть, что все эти страхи в обществе, возникают, когда нарушаются, не только права мигрантов, но и права и свободы самого коренного населения.
Второй распространяющийся миф заключается в том, что межнациональные браки между мигрантами и коренным населением в своей основе являются непрочными и нежизнеспособными. Вместе с тем, как показывает уже имеющийся у России исторический опыт в этой области, о котором чуть подробнее будет рассказано ниже, этот тезис не подтверждается.
В ходе обсуждения идеи четвертого демографического перехода могут появиться и другие мифы, которые, думается, могут появляться скорее от непонимания и незнания предмета исследования. Что же касается реальности, то исторический опыт, говорит о том, что в действительности зачатки четвертого демографического перехода уже имели и имеют место в отдельных странах (Россия, США, Канада, Австралия и др.). В то же время мы сознаем, что само выдвижение идеи четвертого демографического перехода вызывает и ряд закономерных вопросов. Например, почему именно четвертый демографический переход, а не второй или третий? Неужели наша страна уже прошла хотя бы классический демографический переход? Также возникают и многие другие вопросы. Для того, чтобы ответить на них, необходимо для начала обратиться к теории демографического перехода.
В соответствии с классической версией теории демографического перехода предполагалось, что все страны мира пройдут в своем демографическом развитии определенные стадии или этапы. Так, первый этап характеризуется высокими уровнями рождаемости и смертности, ростом числа детей и относительно быстрой сменой поколений. На втором этапе происходит резкое снижение смертности при сохранении высоких уровней рождаемости, поэтому численность населения растет ускоренными темпами. Для третьего этапа свойственна стабилизация смертности на низком уровне, также происходит некоторое снижение уровней рождаемости. Однако тенденция роста численности населения по-прежнему сохраняется. Наконец, на четвертой стадии демографического перехода происходит снижение и затем стабилизация на низком уровне рождаемости и смертности, а также последовательное снижение численности населения в результате возникающей депопуляции, перерастающей затем в положение демографического кризиса.
Автор классической теории Ф. Ноутстайн, полагал, что разработанная им теория имеет универсальный характер, то есть применима для всех стран. Но соответствует ли его утверждение действительности, и все ли страны последовательно пройдут все вышеперечисленные этапы? И самый главный вопрос, а как будет развиваться население тех стран, которые пройдут четвертую стадию классического демографического перехода?
В настоящее время среди демографов нет единого мнения о том, на каком этапе в соответствии с классической теорией демографического перехода находится сегодня та или иная страна мира. Как определить тот момент, когда заканчивается один этап и начинается другой, когда границы размыты и схематичны? Считается, что развивающиеся страны находятся на 2-3 этапе, а развитые европейские страны завершили 4 этап и уже вступили на путь второго демографического перехода. Вопрос, связанный с этапами демографического развития не обошел и Россию. Однако в нашей стране, и он приобретает некий специфический оттенок с учетом сложившейся демографической ситуации (см. таблицу 1).
С одной стороны, ряд существующих тенденций приближают нас к развитым странам мира: произошло снижение младенческой смертности1, растет ожидаемая продолжительность жизни, уровни рождаемости низкие и не достигают уровня простого воспроизводства. С другой стороны, Россию среди развитых стран Европы выделяет беспрецедентно высокий уровень смертности. В 2009 г. по сравнению с 1990 г. число умерших выросло на 345 тыс. чел (или на 21%). Всего же за период с 1990 по 2009 гг. в России умерло около 26 млн человек! Общий коэффициент смертности повысился с 11,2 до 14,2 промилле. Такие показатели характерны лишь для слаборазвитых стран (в основном, африканских: Уганда, Кения и др.). Неслучайно наряду с тремя моделями концепции эпидемиологического перехода появилась четвертая модель эпидемиологического перехода, которая называется «обратный эпидемиологический переход» и присущий России. Получается, что наша страна в области смертности как бы вернулась назад.
Что же касается основных причин смерти населения, то здесь тенденции схожи с развитыми странами. На протяжении уже почти 20 лет на 1-м месте находятся болезни системы кровообращения, на 2-м – новообразования (в 2005 г. они были на 3-м месте), а на третьем – внешние причины. Но больше всего поражает статистика смертности в связи с алкоголем: в год погибает 351,7 тыс.
мужчин и 135,1 тыс. женщин, в сумме 486,8 тыс. или 24,3% всех смертей [2, с. 70]! Несмотря на то, что показатель ожидаемой продолжительности жизни растет как у мужчин, так и у женщин, по этому показателю Россия все больше и больше отстает от развитых стран мира. Например, в США, Великобритании, Японии показатель ОПЖ для мужчин находится в интервале 75-79 лет, а для женщин – 80-86 лет. Получается, что в среднем российский мужчина живет на 12-16 лет, а женщина – на 5-11 лет меньше, чем в странах Запада. Если же обратиться к показателю ожидаемой продолжительности здоровой жизни, то этот разрыв возрастает еще на несколько лет соответственно.
Таблица 1
Показатели демографического развития России, 2000, 2005-2009 гг.
|
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Численность населения (млн чел.) |
146,9 |
143,5 |
142,8 |
142,2 |
142,0 |
141,9 |
|
Суммарный коэффициент рождаемости (‰) |
1, 195 |
1,287 |
1, 296 |
1,406 |
1,494 |
1,537 |
|
Средняя ожидаемая продолжительность жизни (лет) |
||||||
|
Оба пола |
65,34 |
65,3 |
66,6 |
67,51 |
67,88 |
68,67 |
|
Мужчины |
59,03 |
58,87 |
60,37 |
61,39 |
61,83 |
62,77 |
|
Женщины |
72,26 |
72,39 |
73,23 |
73,9 |
74,16 |
74,67 |
|
Браки (‰) |
6,2 |
7,5 |
7,8 |
8,9 |
8,3 |
8,5 |
|
Разводы (‰) |
4,3 |
4,2 |
4,5 |
4,8 |
5 |
4,9 |
|
Средний возраст матери при рождении ребенка (лет) |
25,8 |
26,6 |
26,6 |
27,0 |
27,2 |
27,4 |
Источник: составлено авторами на основании данных Демографического ежегодника России 2010: Стат. сб./
Росстат. – M. – 2010.
Одной из ключевых проблем для нашей страны является крайне низкий уровень ОПЖ у мужчин. Из-за этого, по данным последней переписи (2010 г.), доля мужского населения в общем количестве россиян снизилась до 46,6%. Виной тому социально-экономические и поведенческие факторы. Реформы в стране после развала СССР, кризисы 1998 и 2008 гг. – все это приводит к стрессам, повышенному напряжению среди всего населения и, особенно у мужчин, так как они несут на своих плечах большой груз ответственности не только за себя, но и за обеспечение своей семьи. Что же касается поведенческого фактора, то по сложившемуся мнению, именно мужчины более склонны к злоупотреблению алкоголем, наркотиками, табакокурением. Также у мужчин сильнее суицидальные наклонности. Статистические международные данные характеризуют значительное преобладание мужских суицидов над женскими, как правило, это соотношение в последние десятилетия составляет 3:1 в большинстве стран2. Все эти тенденции находят свое отражение в разрыве показателей ОПЖ между мужчинами и женщинами. Так, в 2005 г. в России этот показатель достиг 13,5 лет, что не находит аналогов в мировой статистике. По имеющимся данным (за 2009 г.) этот разрыв несколько снизился и составляет около 12 лет.
Таким образом, получается, что, с одной стороны, Россия, судя по некоторым показателям, как и развитые страны Европы, уже прошла четвертую стадию классического демографического перехода, а, с другой стороны, из-за некоторых тенденций, описанных выше, оказалась отброшенной, возможно, на третий этап демографического перехода. При этом в нашей стране наблюдаются такие демографические явления (например, уже упоминавшийся «обратный эпидемиологический переход», а также рост уровней рождаемости), которые не вписываются в какой-либо конкретный этап классической теории демографического перехода.
В то же время в нашей стране становятся распространены такие «западные» явления, как например, сознательный отказ от рождения детей. Подтверждением этой тенденции является воз- никновение в 1993 г. в США, а в 2006 г. и в России такого движения, как «child-free», что в переводе с английского означает «добровольно бездетные». Это движение под прикрытием высоких целей (например, свобода выбора человеком своего жизненного пути, право на развитие личности и т.д.) пытается оправдать в глазах общества собственное сознательное нежелание иметь детей и нести ответственность за будущее своей страны. В российской прессе часто повторяют, что по данным Росстата, «из 42 млн российских семей 48% не имеют детей, причем лишь 5 млн – по медицинским показаниям»3. Эти цифры шокируют, но необходимо оговориться, что, во-первых, количественных репрезентативных данных по России об уровне добровольно бездетных на настоящий момент нет, а, во-вторых, то, что 48% российских семей не имеют сейчас детей, вовсе не означает, что часть из них не родят их в будущем. То есть, скорее всего, в эту цифру входят также и отложенные рождения. Но все-таки представленные данные должны насторожить общество, заставить его задуматься: а правильно ли оно поступает, отказываясь от детей для удовлетворения только лишь собственных желаний и потребностей, а также задуматься о том негативном образе жизни, который в настоящее время распространен среди молодежи, так как спустя некоторое время эти люди создадут семью, но родятся ли в ней дети после «бурной молодости» – это еще вопрос. Отметим еще одну негативную тенденцию – распространение «браков» среди растущей численности людей с нетрадиционной ориентацией. Это семьи, в которых априори не может быть детей, а если они и появятся, например, благодаря суррогатному материнству или путем усыновления, то их будущее, с точки зрения семьи и продолжения рода, может быть под вопросом в силу специфического воспитания, которое они получат. Поэтому отношение к нетрадиционным бракам в обществе может быть разным, но отношение к ним с позиции демографического развития только одно – негативное.
Есть еще ряд тенденций. Одна из них состоит в том, что люди не торопятся создавать семью в ее традиционном понимании, а если и создают, то в более зрелых возрастах. Так, если в 1970 г. доля мужчин, вступающих в брак в возрастах 25-34 года была лишь 24,9%, а женщин, соответственно, 15,3%, то в 2009 г. она составила 45% для мужчин и 35,7% для женщин. При этом увеличивается доля людей, живущих в так называемом гражданском браке. По данным Росстата, за последние 20 лет доля состоявших в браке совершеннолетних россиян уменьшилась с 65,3 до 57,2%. А по данным «Левада-Центра», в 2009 г. в гражданском браке проживали 10% совершеннолетних россиян, тогда как в официальном – 51%. Среди москвичей доля гражданских браков достигает 14%, а среди молодежи 25-39 лет – 20%4.
Вышеперечисленные тенденции означают, что Россия вступила в 5-ю стадию демографического перехода или на путь второго демографического перехода, по которому уже движутся развитые западноевропейские страны. То есть, складывается следующая картина: Россия, не пройдя до конца все этапы классического демографического перехода встала перед выбором своего собственного демографического пути. При этом вопрос выбора того или иного пути стоит особенно остро, так как наша страна все глубже погружается в состояние демографического кризиса, которому присущи как количественные, так и качественные негативные изменения в населении, что собственно и характеризует его деградацию (духовную, физическую, психологическую и др.). Хотелось бы отметить, что само явление демографического кризиса зародилось не в России, как принято считать, а в ряде стран Западной Европы в конце 60-х – нач. 70-х гг., прежде всего, в связи с переходом от буржуазной семьи к так называемой «индивидуалистической» семье, в основу которой заложен принцип «добровольного отказа от рождения детей», что и легло в основу концепции «второго демографического перехода» Ван де Каа. Именно поэтому нам необходимо задуматься, а стоит ли России перенимать все то, что предлагает нам западная цивилизация, и не пришло ли время, наконец, задуматься о собственной траектории демографического развития?
На данный момент с теоретической точки зрения существует несколько путей развития, которые так или иначе связаны с таким важным демографическим процессом, как миграция населения. При этом хотелось бы уточнить, что речь идет, прежде всего, о безвозвратной миграции населения.
Один из возможных сценариев будущего развития России – это третий демографический переход. Впервые этот термин использовал британский ученый Дэвид Коулмен в своей статье «Im-migration and ethnic change in low-fertility countries: a third demographic transition». В своих последующих работах он продолжает развивать эту концепцию на примере Великобритании и ряда европейских стран5. Напомним, что суть концепции заключается в следующих тезисах:
-
1. Из-за низкой рождаемости в некоторых индустриальных странах происходят быстрые изменения в этническом составе населения развитых стран, возникающие из-за прямых и косвенных эффектов иммиграции. Это особенно стало заметно в последние несколько десятилетий.
-
2. Прогноз, основанный на правдоподобном допущении, предполагает, что если такое существенное изменение этнического состава населения сохранится, то это приведет к тому, что коренное население станет сначала меньшинством, а затем произойдет полное «замещение» коренного населения большинства стран Западной Европы пришлым населением [3, с. 12].
Таким образом, Коулмену будущее развитых стран мира рисуется в черных красках: вероятнее всего произойдет замена европейской цивилизации азиатской, а для того, чтобы этого не произошло, Коулмен предлагает следующие меры: (1) повышать рождаемость среди коренных граждан, (2) все больше вовлекать женщин в экономическую жизнь, получая, таким образом, дополнительную рабочую силу, и (3) что важно, с нашей точки зрения, «приостановить или запретить новую миграцию» [3]. По нашему мнению, к выдвинутым Коулменом предложениям, есть ряд замечаний. Что касается повышения уровня рождаемости в западноевропейских странах хотя бы до уровня простого воспроизводства, то с этим положением сложно не согласиться. Более того, некоторые из них в последние годы уже подошли к этому уровню (например, Франция, в которой средний коэффициент рождаемости достиг значения 2,1 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста, Великобритания, в которой этот показатель достиг 1,9). Однако достичь уровня расширенного воспроизводства, на наш взгляд, вряд ли удастся в ближайшем будущем, исходя из тех изменений в отношении детей, которые описаны еще в концепции второго демографического перехода. Если же обратиться к тезису о более активном вовлечении женщин в экономическую жизнь, то, в частности, опыт СССР показывает, что активное привлечение женщин без учета их семейного положения и количества детей может оказать лишь негативное влияние на будущее воспроизводство населения.
Наконец, третье: может ли мир, который пришел в движение, отказаться от новых мигрантов? Да, можно проводить политику, препятствующую привлечению новых иммигрантов, но вряд ли это поможет сократить растущие миграционные потоки. Такая политика лишь приведет к увеличению доли нелегальных иммигрантов.
После перевода на русский язык в 2006 г. статьи Коулмена «Иммиграция и этнические сдвиги в странах с низкой рождаемостью: третий демографический переход в действии?» у российских исследователей возникли вполне закономерные вопросы: возможен ли в нашей стране третий демографический переход? Если да, то чем это может грозить нашей стране? Смогут ли приезжающие в Россию мигранты изменить ее облик до неузнаваемости или же они помогут преодолеть наблюдаемые негативные тенденции в демографическом развитии? Если говорить о существующих в России иммиграционных реалиях, то наша страна также притягивает к себе мигрантов, как и развитые страны Европы. Более того, Россия, по ежегодным объемам иммигрантов находится на втором месте в мире, уступая лишь США. Однако говорить о третьем демографическом переходе применительно к России неправомерно. Более того, хотелось бы подчеркнуть, что каждый последующий порядковый номер перехода после второго – третий, четвертый и другие возможные номера, не означает, что они будут следовать друг за другом. Это разные сценарии будущего демографического развития для мира в целом, его отдельных регионов и стран, включая Россию.
Ежегодное количество иммигрантов недостаточно велико при сопоставлении с территорией и имеющимся населением нашего государства, а если же учесть тот факт, что миграционный прирост сокращается год от года, а также происходит исчерпание миграционного потенциала стран СНГ, то можно предположить, что спустя некоторое время России придется бороться не только за своих уезжающих сограждан, но и за мигрантов из стран СНГ. При этом, как отмечает Л.Л. Рыбаков-ский, «миграционный потенциал для России в количественном выражении сохранился преимущественно в странах Центральной Азии, Закавказья и незначительной мере в Молдове. Он сосредоточен в первую очередь в государствах Средней Азии, население которых к 2020 г. должно возрасти не менее, чем на 8 млн чел.» [4, c. 61-62]. Однако опасаться того, что мигранты из Средней Азии смогут изменить этническую структуру, по мнению исследователя, не стоит.
Что же касается возрастно-половых характеристик приезжающих в Россию иммигрантов, то здесь наблюдаются следующие тенденции:
-
1. Численность мужчин среди иммигрантов устойчиво превышает численность женщин, а их возраст находится в интервале, благоприятном для создания семьи (25-39 лет).
-
2. Большую часть прибывшего мужского и женского населения составляют мигранты трудоспособных возрастов, что немаловажно для России в условиях близкого исчерпания собственного трудового потенциала.
-
3. Среди прибывающих в Россию женщин велика доля лиц в репродуктивном возрасте (25-40 лет), а также доля женщин из возрастной группы 65+ (в 2009 г. – 1 6,3% от всех прибывших в Российскую Федерацию женщин), что позволяет предположить, что мигранты приезжают в Россию вместе со своими семьями.
-
4. Доли женатых мужчин и замужних женщин увеличиваются, но также велика и доля тех, кто никогда не состоял в браке (на 2009 г. доля неженатых мужчин составила 69,3%, а незамужних женщин – 52,8%), что с демографической точки зрения может представлять особый интерес для России.
Несмотря на благоприятные половозрастные характеристики иммигрантов, их численности недостаточно для того, чтобы коренным образом изменить демографическую ситуацию в нашей стране. Иммигранты могут лишь замедлить происходящие негативные демографические процессы, что уже немаловажно для нашей страны. Однако даже, несмотря на этот вывод, возможные последствия третьего демографического перехода таковы, что для России этот сценарий демографического развития, как и путь второго демографического перехода, не является предпочтительным. Выбор между сознательным отказом от рождения детей и, как следствие, вымиранием, или заменой коренного населения мигрантами, и как следствие, потерей традиций и культуры российского народа – это одинаково неприемлемые варианты. Но «закрыться» от современных тенденций не представляется возможным: в демократическом обществе нельзя запретить людям быть бездетными и ограничить их право на свободное передвижение.
Именно такой пессимистический взгляд на будущее демографического развития натолкнул нас на необходимость разработки более оптимистичного сценария, который мы и обозначили как четвертый демографический переход. Назвав этот сценарий, таким образом, мы хотели бы сохранить преемственность с классической теорией демографического перехода и показать, что возможны другие, более благоприятные пути демографического будущего для всех стран, идущих по пути демографического перехода.
Суть выдвигаемой нами концепции состоит в том, что миграция может стать положительным явлением для будущего демографического развития, которое учитывает как национальные, так и мировые интересы, через поощрение браков между коренным населением и мигрантами, в результате которых будут появляться дети, символизирующие рождение нового жизнеспособного населения. При этом хотелось бы особенно подчеркнуть, что мы говорим не просто о браках между людьми разной национальности, а именно о браках между мигрантами и коренным населением.
Отметим, что сама идея межэтнических браков восходит к глубокой древности: еще Александр Македонский рассматривал перемешивание наций как один из важных факторов сохранения и развития своей империи. Богатый опыт в этой области есть и у нашей страны, в которой корни такого явления как межнациональные браки уходят вглубь истории. В частности, они связаны, например, с монголо-татарским игом и появлением такой разновидности населения, как чингизиды. Это люди, появившиеся в России благодаря бракам между русскими и монголо-татарами. Также это было связано с освоением обширных территорий России (Урал, Сибирь, Средняя Азия, Дальний
Восток, Казахстан, Закавказье, Прибалтика), то есть непосредственно с миграцией населения. В нашей стране, уже в более позднее время, была предпринята попытка создать особую общность – советский народ. Проводилась целенаправленная политика «в области формирования психологического климата межнационального общения» [5, c. 9], которая помогала властям поддерживать целостность государства и стабильность в нем, и благодаря этому решать экономические, социальные и демографические задачи. Об успешности проводимой подобной политики можно судить по имеющимся статистическим данным. Так, в 1959 г. смешанных семей насчитывалось 5,2 млн (10,2% от общего числа таких семей), в 1979 г. – 9,9 млн (14,9%), а в 1989 г. – 12,8 млн (17,5%), то есть примерно каждая шестая семья включала лиц разной национальности [6, c. 125] .
Была выявлена закономерность между созданием межнациональных семей и миграцией. Этот тезис подтверждается, например, в исследованиях А.В. Топилина, который по данным переписей населения 1959 г., 1970 г., 1979 г. и 1989 г. составил таблицу, показывающую взаимосвязь между долей межнациональных семей и миграцией русских.
А.В. Топилин условно разделил бывшие союзные республики на три группы. Так, в первой и второй группах в 80-е гг. в силу сокращения сальдо миграции русского населения, снизились темпы образования межнациональных семей. Что же касается третьей группы, то тут темпы образования межнациональных семей повысились. Для России это было связано с начавшимся притоком русских, украинцев и белорусов, а также с миграцией представителей других народов. В частности, в этот период численность азербайджанцев, например, возросла на 148 тыс., армян – на 126 тыс., молдаван – на 58 тыс., узбеков – на 51 тыс., грузин – на 31 тыс., киргизов – на 23 тыс., казахов – на 18 тыс. [6, c. 128-129]. Это не могло не сказаться на росте межнациональных семей в нашей стране, что мы и видим из представленной таблицы.
Однако у исследователей неизбежно возникает вопрос об устойчивости межнациональных браков по сравнению с однонациональными. Данная проблема изучена довольно слабо. Обратимся к исследованию стабильности межнациональных браков в Кишиневе, Тбилиси и Таллинне, которое было осписано А.А. Сусоколовым. Он пришел к выводам, что «устойчивость брака определяется не только тем, однонациональный он или смешанный, но и тем, к какой национальности относится супруг» [5, c. 109], и что «наиболее устойчивы браки коренных национальностей. Браки, где один из супругов коренной национальности, а другой – русский, приблизительно также устойчивы, как однонациональные русские. Устойчивость смешанных браков…определяется тем, насколько близки культуры народов, представители которых вступают в брак» [5, c. 110].
Таблица 2
Изменение темпов образования межнациональных семей за 1959-1988 гг. и миграция русских, тыс. чел.
|
Среднегодовой темп прироста числа смешанных семей |
1979 1988 гг. в % к 1959 1978 гг. |
Сальдо миграции русских |
||||||
|
1959 1978 гг. |
1979 1988 гг. |
1959 1978 гг |
1979 1988 гг. |
в % к численности русских |
||||
|
1959 г. |
1989 г. |
|||||||
|
1 группа |
||||||||
|
Армения |
1,1 |
-0,5 |
2,1 |
-25 |
4 |
37,5 |
||
|
Туркмения |
1,9 |
0,8 |
42 |
31,7 |
-37 |
5,5 |
10,6 |
|
|
Казахстан |
2,0 |
1,1 |
55 |
1140,6 |
-394 |
14 |
6,6 |
|
|
Кыргызстан |
1,2 |
0,7 |
58 |
150,8 |
-70 |
24,2 |
7,7 |
|
|
Таджикистан |
1,6 |
1,3 |
81 |
75,7 |
-37 |
13 |
9,4 |
|
|
2 группа |
||||||||
|
Литва |
3,3 |
1,25 |
38 |
24,8 |
21 |
4,9 |
6,9 |
|
|
Эстония |
2,3 |
1,0 |
43 |
115,4 |
30 |
21 |
7,2 |
|
|
Латвия |
2,1 |
1,3 |
62 |
146,4 |
43 |
12,8 |
5,2 |
|
|
Белоруссия |
3,1 |
2,0 |
65 |
327,7 |
81 |
21,9 |
7,1 |
|
|
Молдова |
2,2 |
1,6 |
73 |
147,5 |
23 |
22 |
4,5 |
|
|
Украина |
1,9 |
1,5 |
79 |
1858,6 |
293 |
11,9 |
2,8 |
|
|
3 группа |
||||||||
|
Россия |
1,9 |
2,1 |
111 |
-4165,4 |
313 |
2 |
0,3 |
|
|
Азербайджан |
0,3 |
0,4 |
133 |
-124,9 |
-80 |
12,4 |
16,8 |
|
|
Узбекистан |
1,25 |
1,9 |
152 |
336,3 |
-124 |
14,2 |
7,4 |
|
|
Грузия |
0,8 |
1,6 |
200 |
-115,5 |
-38 |
14,3 |
10,2 |
|
Источник: Топилин А.В. Взаимодействие миграционных и этнических процессов. // М.: Эконом-Информ. –
2010, стр. 127.
Таблица 3
Доля браков, заключенных в 1971 г. и распавшихся в последующие 8-10 лет, %
|
Однонациональные семьи, где супруги: |
Межнациональные, % |
||
|
Коренной национальности,% |
Русские, % |
||
|
Кишинев |
19 |
33 |
27 |
|
Тбилиси |
10 |
15 |
17 |
|
Таллинн |
26 |
30 |
39 |
Источник: таблица составлена по данным исследования А.А. Сусоколова, стр. 109- 110.
Таким образом, краткий анализ вопросов, связанных с концепцией четвертого демографического перехода, показал, что данный сценарий будущего демографического развития является более предпочтительным, более оптимистичным, по сравнению с такими вариантами развития, как второй и третий демографические переходы.
Для успешного продвижения по пути четвертого демографического перехода, нужна политика государства, направленная не только на привлечение мигрантов как таковых, но и на поощрение браков между мигрантами и коренным населением. А также недопущение создания и развития миграционных анклавов, что имеет место в настоящее время. Более того, Россия уже имеет неплохой исторический опыт в продвижении по четвертому демографическому переходу. Главное – осознать этот опыт и принять соответствующие меры по полному воплощению предложенной на- ми концепции. Тем более, что ситуация, в которой приходится действовать, в отличие от советского прошлого, является, возможно, менее благоприятной, как в силу демографических причин, так и в силу социальных, которые находят свое отражение в таких явлениях, как ксенофобия, расизм, национализм. Именно поэтому, на наш взгляд, представляется особенно важным и актуальным восстановление той атмосферы, если не дружественности и братства, то хотя бы просто терпения и уважения к людям другой национальности и веры. Еще раз подчеркнем, что наряду с этим необходима такая политика по привлечению иммигрантов, в том числе и трудовых мигрантов, которая будет способствовать улучшению не только количественных, но и качественных характеристик населения России.
***
-
1. Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа // Ломоносов М.В. Собр. соч., том 2. М., 1985.
-
2. Немцов А.В. Алкогольная смертность в России и пути снижения алкогольных потерь // Демографические перспективы России и задачи демографической политики: Материалы научнопрактической конференции 6-8 апреля 2010 г. – М.: Экон – Информ, 2010.
-
3. Коулмен Д. «Иммиграция и этнические сдвиги в странах с низкой рождаемостью – третий демографический переход в действии?» // Миграция и развитие. Научная серия: международная миграция населения: Россия и современный мир. Гл. ред. В.А. Ионцев, Выпуск 20. М.: СП Мысль, Би эль Принт, 2007.
-
4. Прохорова Ю.А. Демографическая детерминанта международной миграции населения в России // Научная серия Международная миграция населения Россия и современный мир. Выпуск 23. Детерминанты международной миграции населения: вопросы совершенствования миграционной политики России. М.: МАКС Пресс, 2010.
-
5. Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н.И. Оценка возможных и необходимых масштабов привлечения иммигрантов в Россию. – М.: Экон – Информ., 2010.
-
6. Сусоколов А.А. Межнациональные браки в СССР – М.: Мысль, 1987.
-
7. Ван де Каа Д. О международной миграции и концепции второго демографического перехода // Мир в зеркале международной миграции. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир» / Гл. ред. В.А. Ионцев. Вып. 10. – М.: МАКС Пресс, 2002.
-
8. Ионцев В.А. Международная миграция: теория и история изучения. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир» Выпуск 3. – М.: Диалог–МГУ, 1999.
-
9. Топилин А.В. Взаимодействие миграционных и этнических процессов. – М.: Эконом – Информ, 2010.
-
10. Coleman D. Immigration and ethnic change in low-fertility countries: a third demographic transition // Population and development review. 32 (3), 2006.
Список литературы Мифы и реальность четвертого демографического перехода в России
- Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа // Ломоносов М.В. Собр. соч., том 2. М., 1985.
- Немцов А.В. Алкогольная смертность в России и пути снижения алкогольных потерь // Демографические перспективы России и задачи демографической политики: Материалы научно-практической конференции 6-8 апреля 2010 г. - М.: Экон - Информ, 2010. EDN: SQJOAR
- Коулмен Д. «Иммиграция и этнические сдвиги в странах с низкой рождаемостью - третий демографический переход в действии?» // Миграция и развитие. Научная серия: международная миграция населения: Россия и современный мир. Гл. ред. В.А. Ионцев, Выпуск 20. М.: СП Мысль, Би эль Принт, 2007.
- Прохорова Ю.А. Демографическая детерминанта международной миграции населения в России // Научная серия Международная миграция населения Россия и современный мир. Выпуск 23. Детерминанты международной миграции населения: вопросы совершенствования миграционной политики России. М.: МАКС Пресс, 2010.
- Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н.И. Оценка возможных и необходимых масштабов привлечения иммигрантов в Россию. - М.: Экон - Информ., 2010. EDN: QUNVJF
- Сусоколов А.А. Межнациональные браки в СССР - М.: Мысль, 1987.
- Ван де Каа Д. О международной миграции и концепции второго демографического перехода // Мир в зеркале международной миграции. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир» / Гл. ред. В.А. Ионцев. Вып. 10. - М.: МАКС Пресс, 2002.
- Ионцев В.А. Международная миграция: теория и история изучения. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир» Выпуск 3. - М.: Диалог-МГУ, 1999.
- Топилин А.В. Взаимодействие миграционных и этнических процессов. - М.: Эконом - Информ, 2010. EDN: QOLEWR
- Coleman D. Immigration and ethnic change in low-fertility countries: a third demographic transition // Population and development review. 32 (3), 2006. EDN: OLDXDP