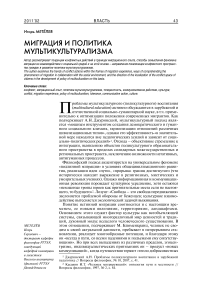Миграция и политика мультикультурализма
Бесплатный доступ
Автор рассматривает тенденции конфликтных действий в границах миграционного опыта, способы осмысления феномена миграции во взаимодействии с социальной средой и на этой основе - направления локализации конфликтного пространства граждан в развитии политики мультикультурализма.
Конфликт, миграционный опыт, политика мультикультурализма, толерантность, коммуникативное действие, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170165733
IDR: 170165733
Текст научной статьи Миграция и политика мультикультурализма
Философский подход акцентируется на универсальном феномене «подлинной миграции» в условиях общецивилизационного развития, реализации идеи «пути», «прорыва» границ достигнутого (что исторически находит выражение в религиозных, мистических и умозрительных учениях). Однако информационная и коммуникационная революция порождает культурное усреднение, хотя остаются «нехоженые тропы героев как притягательные места если не настоящего, то будущего»2. Лозунг: «Свобода – это свобода передвижения» заслоняется проблемой обороны от беженцев; культурное взаимодействие вытесняется экологической задачей выживания.
МЕТЕЛЁВ
Игорь
Сергеевич – докторант кафедры философии РГТЭУ, заведующий кафедрой коммерции и логистики
Понятие истинной миграции соотносится и с настоящим временем, ее новыми явлениями, территориями, ландшафтами. Основанием этого служит фактор культуры как всеобъемлющей системы, связывающей многоразличный мир ценностей и традиций, духовный модус всецелого человеческого существования. В этом отношении, подчеркивает М. Блюменкранц, человек не сводим к своей актуальной данности, пребывает в непрерывном становлении, реализует многообразные потенции, и благодаря этому он «всегда в пути, со всеми падениями и подъемами ему сопутствующими». Но при всех выпадениях из различных пределов, эгоцентризме, индивидуалистических притязаниях он – продукт «новых коммуникаций», когда путешествия теряют «тепло добросовестных человеческих контактов», общение – «необходимую атмосферу интимности», что напоминает, скорее, «тюремное свидание под неизменным наблюдением… посредника – телефонного или электронного аппарата». В результате теряется «точка центрирования», в которой стягивается смысл социально-человеческого существования и существования мира. Как следствие, вырабатывается «накатанная техника скольжения по жизни»1.
Приходится подробно ссылаться на этот анализ, поскольку проблематика «человека мигрирующего» образует специфический понятийно-проблемный комплекс как совокупность традиционных и новационных понятий и категорий. Пространственные перемещения граждан в фазисах социально-познавательных установок обнаруживают такие сопряженные фрагменты, как миграционный опыт, миграционное существование, миграционное поведение, миграционная судьба.
Вместе с тем стратегия ассимиляции инонациональных граждан остается ведущей в современных западных странах. Более того, появляется ее грубая альтернатива: вытеснение под различными предлогами этнических меньшинств (например, депортация цыган из Франции осенью 2010 г. в качестве нежелательного элемента для общефранцузского социума; выпады ряда политических партий Великобритании в отношении мусульманских общин за их якобы «видимое стремление» доминировать в культурнорелигиозной жизни). Подобные проблемы обнаруживаются и в России (например, в ноябре 2010 г. в Москве впервые произошло открытое отправление религиозных культов и обрядов на площадях и улицах в дни мусульманского священного праздника – Рамазана).
Сегодня следует говорить не только о социализации мигрантов как приспособлении, но и о плюрализации образа жизни, поведения и мышления. Но дело в том, что «другие» (в ряде случаев даже «свои») не воспринимаются вовсе или всерьез, когда появляется поле индифферентности и межэтнический конфликт соответствует общественным настроениям и интересам. Модели подобающего поведения отличаются от группы к группе, от культуры к культуре, но при этом можно принимать роли друг друга, достигать конвенциального согласия (иначе происходит приписывание сторонам превратных намерений, вплоть до крайне злобных). По этой причине сложно структурированные общества, в т.ч. приходящие в движение на основе массовых миграционных процессов, обращены к исключению коммуникативного непонимания, пренебрежения целостностью межчеловеческих отношений.
Возможна ли такая шкала взаимоотношений в плюралистическом обществе? Если да, то только в случае, когда большая часть граждан разделяет общепринятую систему ценностей. Но и в этой ситуации происходит разделение взглядов по плоскостям представлений о социальном порядке, существе человеческой природы, нравственно-психологических качествах, структурах душевного мира. По этой причине трудно указать, что именно должны знать и разъяснять люди для исключения опасных тенденций поведения.
В этом отношении, например, толерантность следует понимать не в абстрактно-гуманистическом смысле, а в реалистическом объяснении и понимании. К. Манхейм развивает актуальную характеристику идеи толерантности. Она есть не что иное, «как мировоззренческая формулировка тенденции исключить из публичной дискуссии всякое субъективное или связанное с определенными группами содержание веры, т.е. субстанциональную иррациональность, и утвердить оптимальное в функциональном отношении поведение»2. Соответственно этому должны исключаться массовые психозы и предубеждения, перевод моральных дискуссий в межэтническую и религиозную борьбу с элементами иррациональных помех. К. Манхейм поясняет: люди должны приучаться к самоограничению в своих реакциях и поступках, хотя большинство способно видеть и понимать лишь часть общественного процесса, и лишь постепенно они привыкают «размышлять о целом». Крайне актуальным является рассуждение К. Манхейма о том, что, с одной стороны, приходит осознание необходимости заранее продумывать все более длинные пути развития и поступать в направлении соци- альной гармонии, например, «исходя из требований совести»; с другой стороны, наличествует «господствующая большая социальная группа», которая стремится захватить планирование общественных дел и начинаний, чтобы использовать его «во вред остальным группам».
Сегодня мы являемся свидетелями того, что подобное «одностороннее планирование» препятствует процессам адаптации, в первую очередь по отношению к группам трудовых мигрантов. Крайне негативным является постулат о «Великой антимиг-рационной стене», выдвигаемый рядом ученых и политиков в России1, который негативно воздействует на душевно-психологическую жизнь граждан, ограничивает процессы преобразования общества и человека, особенно с учетом того, что страна пришла в движение, которое уже не остановить.
Как известно, исторический опыт Америки демонстрирует неэффективность концепции «плавильного котла» для создания гомогенной нации. В последнее время говорится о «салатном блюде» как духовно-культурном многообразии. Американский социолог Ч.-Х. Кули объясняет универсальную коллизию: допустим, китайского приемного ребенка родители перевозят в свою страну. Его природное прошлое коренится в Китае (физические черты, качества ментальности). Но «социальное прошлое» уже будет относиться к новой стране (окружающие люди, манеры, идеи, американские политические и образовательные институты). «Китайская речь и американская дорога сойдутся в его жизни», – резюмирует Ч.-Х. Кули 2.
Но в современной Европе этот ход мыслей не подтверждается исходом ряда миграционных процессов; доминирующее значение вновь приобретает идея ассимиляции. Так, в октябре 2010 г. канцлер ФРГ А. Меркель сделала сенсационное заявление (в подтверждение предшествующим выводам политиков) о том, что политика «мультикультурализма», т.е. стремление обеспечить принцип: «жить рядом и ценить друг друга», в отношении коренных жителей и мигрантов потерпела крах. По ее мнению, даже потенци- ально процесс ассимиляции последних угрожает самоликвидацией традиционной общественной системы, которая не нуждается в притоке населения других стран. Сегодняшние общественные настроения в ФРГ соответствуют правопопулистским воззрениям политиков.
Нравственные смыслы поведения, шире – социальная этика предполагают достижение социально-человеческого взаимопонимания и солидарности. Вместе с тем современный производительный труд мигрантов включается в экономику посредством денежного механизма. Согласно Н. Луману, на переднем плане – новые формы социальности, предполагающие не межличностное взаимопроникновение, а прагматические ориентации. Это исключает полное включение «комплексности человека в комплексность дру-гого»3. Естественно, что это сказывается на благополучии большинства трудовых мигрантов как дешевой рабочей силы. Только в постепенной смене форм общественной дифференциации возможны мотивы взаимоуважения и взаимовнимания как процессов углубления социальной интеракции.
Это подчеркивает особую роль общественной нравственности, которую следует соотносить с правами человека, положениями о регистрации граждан, ограничениями ряда выражений «не в пользу» отдельных групп граждан. При этом наиболее важна, отмечает Р.Г. Апресян, «мораль в действии». В конечном счете, социальная этика способствует созданию атмосферы общественного блага, солидарности и примирения, хотя остаются подвижными рамки поведения, неопределенность стандартов и стилей жизни4.
Речь идет о специфических сложностях, например, оценке чужих нравов и обычаев. В социально-психологическом смысле человек, даже против своей воли, рассматривает их через призму собственных (в результате проявляется этноцентризм). То, что каждому нравы своей среды и формы поведения ближе инонациональных, – феномен относительно нормальный. Но подобные различия нельзя превращать в главное качество отношения к другим эт- носам, и самое опасное – доводить их до уровня этнического предубеждения, обоснования дискриминационного отношения к той или иной группе граждан. Именно это проявилось в декабре 2010 г. в виде выступления объединений болельщиков в г. Москве. Феноменальность такого отношения заключается в переносе внимания с факта происшествия на национальную принадлежность.
Сегодня по отношению к трудовым мигрантам в России следует добиваться общих правил этико-культурной воспитанности (шире – деятельности), которые предполагают, во-первых, механическую, или «заученную», моральность в виде элементарного выражения приветствий, знаков внимания, вербальных реакций в типичных ситуациях общения, во-вторых, стереотипную моральность как полуавтоматическое исполнение общепринятых норм и образов поведения, культурные привычки, формы коммуникации, наконец, убежденную моральность как достижение личностью внутреннего понимания нравственных принципов и идеалов, ценностных ориентаций на уровне самосознания. Поуровневый поведенческий план в жизненном смысле сопрягается с миром нравов как устойчивых культурнопсихологических установок вследствие непосредственного влияния окружающей среды (нравы мира окраин, больших городов, специфика профессий, этнической среды, мест проживания).
Во взаимоотношениях личности трудового мигранта и социальной среды можно выделить варианты: человек полностью покидает «материнскую среду»; полностью остается в ее пределах; частично усваивает ценности новой среды и умеет сочетать их с традиционной для него обстановкой. В последнем случае он может быть устремлен к новым для себя ценностям, но ему не всегда удается быть принятым в перспективном жизненном мире. Возвращение же к исконной почве не проходит для него бесследно. В этом случае мигрирующий субъект находится на границе двух сред (миров) и по своему статусу может быть приравнен к маргинальной личности. При этом мигрант пытается защитить и оправдать свои действия, но его не покидает чувство вины. В лучшем случае он уходит «в дела» и оставляет свое беспокойство в позитивных начинаниях, одновременно пытается освободить себя от ответственности за то, что он неправильно сделал.
Для Г.Г. Кеглера существенными в плане современной этики являются позиции распределения «универсальной нормативности другого» как перспективный ответ на «вызов нормативности», что предполагает конкретное признание других и заботы о них как необходимость встречи «лицом к лицу»1. В частности, общественный опыт мигрантов должен быть значим для людей, принадлежащих к другим традициям или к «инакомыслящим» представителям данной традиции. На этой основе развивается универсально-нормативная установка, способная избежать репрессивных «недочетов», консервативных концепций морали. Диалогическое признание «другого» в ориентациях на его жизненный мир обусловливает признание «самопонимания другого», т.е. с позиций его самого, в целях адекватного понимания и объяснения поступков. Абстрактно-эгоистический смысл формулы «каждый имеет по своим заслугам» в нравственно-человеческом смысле, особенно по отношению к тем, кто оказывается в бедственном положении, означает «несчастье несчастного», «счастье счастливого», что в конечном счете предстает выражением неравенства. Образовательно-воспитательный фактор должен выступать определителем связи объекта с тем, что нужно человеку, в чем он субъективно заинтересован.
Сегодня рецидивы варварства разнообразны и многолики, не исключены они и в будущем. При этом «отношение человека к человеку» должно исключать нецивилизованное сознание и, как следствие, бесчеловечные действия. Практически выгодно и одновременно нравственно «не посягать на жизнь, здоровье, человеческое достоинство других людей, не замышлять против них враждебных, бесчеловечных, немилосердных действий»2. От этого зависит общецивилизационный облик страны, ее отдельных регионов, отношение к ней в масштабе мирового сообщества, что является предметом озабоченности российского политического руководства.