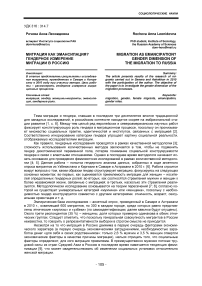Миграция как эмансипация? Гендерное измерение миграции в Россию
Автор: Рочева Анна Леонидовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 8, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования мигрантов, проведенного в Самаре и Астрахани в 2010 году при участии автора. Цель работы - рассмотреть гендерное измерение миграционных процессов.
Миграция, гендер, женщины-мигранты, эмансипация, гендерные роли
Короткий адрес: https://sciup.org/14934551
IDR: 14934551 | УДК: 316
Текст научной статьи Миграция как эмансипация? Гендерное измерение миграции в Россию
Тема миграции и гендера, ставшая в последние три десятилетия вполне традиционной для западных исследований, в российском контексте находится скорее на эмбриональной стадии развития [1, c. 8]. Между тем целый ряд европейских и североамериканских научных работ фиксирует конституирующую роль гендера в миграционном процессе, поскольку он пронизывает множество социальных практик, идентичностей и институтов, связанных с миграцией [2]. Соответственно игнорирование категории гендера упрощает картину социальной реальности, отображаемую исследователями миграции.
Как правило, гендерные исследования проводятся в рамках качественной методологии [3]; сложность использования количественных методов заключается в том, чтобы не подменить гендер дихотомической переменной пола, потеряв понимание социальной конструируемости гендера и связи с властными отношениями. Однако в последнее время методологи начинают искать основания для проведения феминистских исследований в рамках количественной методологии [4; 5]. Данная работа – попытка гендерного анализа данных, собранных в ходе анкетного опроса мигрантов из Узбекистана и Киргизии в Самаре и Астрахани в 2010 г. [6]. Работа строится вокруг вопроса о том, каким образом гендер структурирует миграцию, фокусируясь на следующих основных моментах: во-первых, как оценивается приемлемость миграции для женщин – носителей определенных гендерных ролей; во-вторых, как соотносятся стремления мужчин и женщин к более независимой жизни, связанные с миграцией; в-третьих, насколько эти стремления реализуются. Методологически исследование основывается на теории пересечений [7; 8], согласно которой не существует универсальных категорий «мужчина» или «женщина», поскольку с необходимостью гендер конструируется совместно с другими категориями: этничность, возраст, сексуальная ориентация и т. д.
Эмпирическая база исследования – анкетный опрос, проведенный в Самаре и Астрахани в 2010 г., охвативший 600 мигрантов, по 300 в каждом городе, среди которых равно представлены этнические «киргизы» и «узбеки» (по самоидентификации; далее кавычки будут опущены). Около трети респондентов (35 %) – женщины, доля которых примерно одинакова в обеих этнических группах. Следует отметить, что поскольку генеральная совокупность мигрантов в России неизвестна, то говорить о репрезентативности выборки в строгом смысле не приходится.
Несмотря на то что миграция в Россию движима в первую очередь факторами экономического характера (в первую очередь экономическими затруднениями, необходимостью заработка денег «для себя и своих родственников»: только 2,6 % мужчин и 3,5 % женщин отвергли экономические факторы в качестве причины миграции), нельзя отрицать того, что социальные факторы определяют, для кого миграция приемлема. В преимущественно мужских потоках трудовой силы из стран Средней Азии в Россию в последнее время намечается тенденция феминизации [9], что может свидетельствовать об изменении социальных установок относительно женской миграции.
Уровень приемлемости женской миграции в Россию на заработки варьируется. В целом 10 % мужчин и 22 % женщин признают возможной самостоятельную мобильность женщины. Более легитимна в глазах мигрантов поездка в Россию вслед за мужем или другим мужчиной-родственником: доля признающих приемлемость такой миграции колеблется в разных этнических группах в Самаре и Астрахани от 54,8 % (киргизы в Самаре) до 79,3 % (киргизы в Астрахани). Родственник-мужчина признается неким «пунктом социального контроля», однако в этой роли отказывают женщине-родственнице: если миграция вслед за родственником приемлема для женщины в глазах 68 %, то вслед за родственницей - в глазах 13 % респондентов.
Приемлемость женской миграции лишь одно из измерений гендерного порядка, тесно связанных между собой, которые включают и представление о гендерных ролях, о соотношении присутствия женщины в публичном и приватном пространствах. Большинство респондентов, допускающих самостоятельную миграцию женщины, признают за женщиной роль «кормильца» - необходимость работать независимо от материального положения семьи (80 %). Напротив, среди возбраняющих женскую мобильность б о льшая часть приписывает женщине роль «хранительницы очага», занимающейся домашним хозяйством и воспитанием детей (69 %).
Любопытно, что роль «хранительницы очага» в большом числе случаев ведет за собой и роль «кормильца»: 73 % из поддержавших первую роль признают и необходимость второй. Вероятно, в этом сказывается влияние советского прошлого с предписываемой женщине «двойной нагрузкой» [10], подразумевающей двойной рабочий день: дома и на оплачиваемой работе. Однако среди поддерживающих необходимость занятости женщины в публичной сфере половина не согласны с необходимостью заниматься домашним хозяйством (50 %), причем среди женщин доля несогласных выше, чем среди мужчин (64 % против 42 %).
Длительность пребывания в России, соответственно длительность знакомства с местным гендерным порядком влияет на оценку женской миграции: готовность принять самостоятельную мобильность женщин растет по мере проживания в России. Так, среди приехавших в Россию год-два назад недопустимость подчеркивают 20 %, а среди приехавших более 10 лет назад - только 6 %.
Готовность признать миграцию приемлемой для женщин-соотечественниц связана и с собственными стремлениями к более независимой жизни в результате поездки в Россию: наибольшая доля стремящихся к более независимой жизни оказалась среди признающих возможной женскую мобильность (67 %).
В целом, более половины респондентов назвали стремление к независимой жизни среди планов, связанных с поездкой в Россию: 50 % назвали стремление жить более независимо вполне определенно, 20 % ответили «и да, и нет». Интересно, что, вопреки ожиданиям, значимость этого фактора увязана больше не с гендером, а с возрастом; его популярность выше всего для молодых возрастов и снижается обратно пропорционально возрасту: доля отметивших присутствие этого стремления в той или иной мере падает с 94 % (среди людей до 25 лет) до 32 % в группе 40 лет и старше. Сдвиг от зависимости к независимости наряду с переходом от безответственности к ответственности может рассматриваться как общая характеристика молодежи («Молодость - термин, описывающий ... движение от зависимости к независимости») [11, с. 174-175] и сквозь призму этого поездка на заработки в Россию может представляться способом достижения независимости в разных смыслах: финансовом, социальном и т. д. Более того, опыт миграции в Россию может составлять необходимую часть «нормального» пути молодого человека, окончившего школу» [12], подобно тому как служба в армии могла составлять элемент инициации юноши в советское время.
Стремление к независимой жизни в связи с миграцией в Россию в наименьшей степени отмечали респонденты, состоящие в зарегистрированном браке, а в наибольшей - те, чей брак не зарегистрирован. Стратегию построения отношений в виде сожительства, вероятно, легче реализовать в России, где уровень социального контроля ниже, более того, по мере роста населения города в России уровень социального контроля снижается (вероятно, в связи с этим незарегистрированные браки оказались более распространены в Самаре, нежели в Астрахани: 18 % против 2 %). Наряду с семейным положением важным оказывается уровень образования: чем выше образование, тем выше значимость независимой жизни (среди лиц с высшим образованием этот фактор хотя бы в некоторой степени значим для 100 % ответивших).
Среди тех, у кого были определенные намерения жить более независимо, эти намерения удалось реализовать в той или иной степени подавляющему большинству (96 %). Хотя бы отчасти это стремление реализовалось примерно одинаково во всех возрастных группах, среди мужчин и женщин; исключение составили молодые женщины до 25 лет, среди которых 9 % не удовлетворены полученной степенью независимости.
Оценка «эмансипирующего» действия миграции в Россию различается у мужчин и женщин в зависимости от семейного положения и фактического проживания с супругом/супругой или отдельно. Социальный контроль способны и уполномочены осуществлять не жены, а мужья: 59 % мужчин, живущих вместе с женой, и 60 % мужчин, живущих без супруги, признают б о льшую степень свободы в России, чем дома; для женщин эти показатели 45 % и 70 % соответственно, то есть наличие мужа / партнера является фактором, препятствующим признанию «эмансипирующего» действия миграции в Россию. Тем не менее при миграции в Россию социальный контроль снижается и для женщин, и для мужчин; однако для женщин без мужей / партнеров снижение еще более заметно, чем для этой же категории мужчин.
Как показывают результаты проведенного анализа, женская самостоятельность в миграции оценивается скорее негативно, хотя продолжительное проживание в России способствует формированию положительного отношения. Интересно, что значимость более независимой жизни варьируется в зависимости от поколения и уровня образования даже больше, чем в зависимости от гендерной принадлежности: для молодых мужчин и женщин и людей с высшим образованием это довольно сильная мотивация миграции. По собственным оценкам респондентов, миграция в Россию способствует реализации проекта независимой жизни. Однако оценка эмансипирующей роли миграции выше в случаях отсутствия партнера / партнерши; для женщин эта тенденция более отчетлива, чем для мужчин.
Ссылки и примечания:
P. 197–210.
социальной среды российских городов иноэтничными трудовыми мигрантами и принимающим населением» (руководитель В.И. Мукомель).
Список литературы Миграция как эмансипация? Гендерное измерение миграции в Россию
- Космарская Н.П. От составителя//Диаспоры. 2005. № 1.
- Gender and U.S. Immigration: Contemporary Trends. University of California Press, Berkeley and Los Angeles; London, 2003.
- Donato K. et al. A Glass Half Full? Gender in Migration Studies//International Migration Review. 2006. Vol. 40. № 1. P. 3-26.
- Scott J. Quantitative methods and gender inequalities//International Journal of Social Research Methodology. 2010. Vol. 13. № 3. P. 223-236.
- Williams J.R. Doing feminist-demography//International Journal of Social Research Methodology. 2010. Vol. 13. № 3. P. 197-210.
- Crenshaw K. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color//Stanford Law Review. 1991. Vol. 43. №. 6. P. 1241-1299.
- Collins P.H. Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. Routledge, 2000.
- Оценка нужд и потребностей женщин -трудящихся мигрантов. Центральная Азия и Россия/Тюрюканова Е. и Абазов Р.; Фонд ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). [Б. м.], 2009.
- Здравомыслова Е.А., Тёмкина А.А. Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период: сб. науч. ст./под ред. Е. Здравомысловой, А. Тёмкиной. СПб., 1996.
- Фрис С. Социология молодежи/пер. Е.Л. Омельченко//Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры. М., 2000.
- Ривз М. По ту сторону экономического детерминизма: микродинамика миграции из сельского Кыргызстана//Неприкосновенный запас. 2009. № 4 (66).