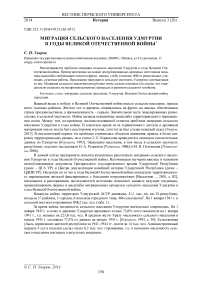Миграция сельского населения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны
Автор: Уваров С.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальные и внешнеполитические аспекты военных конфликтов
Статья в выпуске: 3 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема миграции сельского населения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Преимущественно на основе неопубликованных архивных источников показаны масштабы мобилизации селян на фронт, заводы, учебу в школах ФЗО и ремесленных училищах, сезонные работы. Прослежена эвакуация в сельскую местность Удмуртии и реэвакуация из нее. Миграция сельского населения республики очень сильно изменила его состав, что отрицательно сказалось на воспроизводственных процессах и развитии сельского хозяйства.
Миграция, сельское население, удмуртия, великая отечественная война, эвакуация
Короткий адрес: https://sciup.org/147203563
IDR: 147203563 | УДК: 325.11:
Текст научной статьи Миграция сельского населения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны
Важный вклад в победу в Великой Отечественной войне внесло сельское население, прежде всего тыловых районов. Жители сел и деревень отправлялись на фронт, на заводы, обеспечивали страну продовольствием, а промышленность – сырьем. Значительная часть эвакуированных разместилась в сельской местности. Война вызвала невиданные масштабы территориального перемещения селян. Между тем, по-прежнему малоисследованной остается проблема миграции сельского населения Удмуртии в годы войны. В советское время из-за ограниченного доступа к архивным материалам она не могла быть всесторонне изучена, хотя тогда был создан немалый задел [ Уваров , 2013]. В постсоветский период эта проблема становилась объектом внимания, правда, в более широких территориальных рамках, но в статье Г. Е. Корнилова приводятся в основном относительные данные по Удмуртии [ Корнилов , 1993]. Эвакуацию населения, в том числе в сельскую местность республики, отдельно исследовали Н. А. Родионов [ Родионов , 1986] и М. Н. Потемкина [ Потемкина , 2006].
В данной статье предпринята попытка комплексно рассмотреть миграцию сельского населения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Источниками изучения явились в основном неопубликованные документы Центрального государственного архива Удмуртской Республики (далее – ЦГА УР) и Центра документации новейшей истории Удмуртской Республики (далее – ЦДНИ УР). Несмотря на то что в годы Великой Отечественной войны показатели территориального перемещения жителей фиксировались с большими погрешностями [Население…, 2001, с. 82], имеющиеся в распоряжении исследователей источники позволяют выявить ведущие тенденции, проанализировать формы и масштабы миграционных процессов сельского населения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны.
Накануне войны территория Удмуртской АССР равнялась 41,1 тыс. кв. км. В республику входили 37 районов, 5 городов, 6 поселков городского типа, 466 сельсоветов2. На 1 января 1941 г. в сельской местности проживало 848,2 тыс. чел. (табл. 1).
За время войны численность сельского населения Удмуртии значительно сократилась. На 1 января 1945 г. в селах и деревнях Удмуртии проживало только 73,6% этого показателя на 1 января 1941 г., т.е. меньше на 223,8 тыс. чел. В среднем же по Уралу численность сельского населения в начале 1945 г. составила 77,5% от данных на начало 1941 г. [ Корнилов , 1993, с. 30]. Естественная убыль деревенских жителей республики за 1941–1944 гг. достигла 14 тыс . чел. Административный перевод 4 сел в поселки сделал около 6,3 тыс. чел. горожанами, т.е. в основном численность сельского населения снизилась в результате миграции.
Таблица 1
|
Дата |
Население |
||
|
Городское |
Сельское |
Всего |
|
|
1 января 1941 г. |
342,2 |
848,2 |
1190,4 |
|
1 января 1942 г. |
388,2 |
778,8 |
1167 |
|
1 января 1943 г. |
392,3 |
712,4 |
1104,7 |
|
1 января 1944 г. |
394 |
660,1 |
1054,1 |
|
1 января 1945 г. |
384,2 |
624,4 |
1008,6 |
|
1 января 1947 г. |
398,7 |
680,4 |
1079,1 |
Численность населения Удмуртской АССР, тыс. чел.
Примечание: составлено по: ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 3. Д. 116. Л. 301–336; Д. 118. Л. 39; Д. 126. Л. 5; Оп. 7. Д. 21. Л. 4, 7об., 8; Оп. 17. Д. 4. Л. 6, 8, 8об., 10, 14, 20, 25
В значительной мере село потеряло мужчин. Если на 1 января 1941 г. в Удмуртии числилось 384,3 тыс. селян мужского пола, то к 1 января 1945 г. их осталось 223,2 тыс. (табл. 2). Естественная убыль сельского мужского населения за 1941–1944 гг. достигла 7,6 тыс. чел. Примерно 3 тыс. мужчин превратились в горожан в результате административного перевода сел в поселки городского типа. Еще около 1,8 тыс. чел. составили остававшиеся в сельской местности эвакуированные мужчины. Приблизительно 8 тыс. чел. к 1 ноября 1944 г. уже демобилизовались3. Таким образом, по данным статистического ведомства в 1941–1944 гг. около 160,3 тыс. селян мужского пола мигрировали в города Удмуртии или выехали за пределы республики.
Распределение сельского населения Удмуртской АССР по полу и возрасту, чел.
Таблица 2
|
Возраст, лет |
На 17 января 1939 г. (перепись) |
На 1 я 194 |
нваря 3 г. |
На 1 я 194 |
нваря 5 г. |
На 1 я 194 |
нваря 8 г. |
|
|
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
|
0-3 |
52889 |
52742 |
81445 |
84090 |
22685 |
22939 |
23030 |
23364 |
|
4-7 |
47296 |
47580 |
39178 |
40608 |
26709 |
27048 |
||
|
8-13 |
89488 |
91873 |
61318 |
64784 |
57798 |
62099 |
58285 |
61757 |
|
14-15 |
23047 |
26159 |
19307 |
22248 |
18914 |
20245 |
||
|
16-17 |
173268 |
207725 |
15262 |
20779 |
12218 |
18571 |
19875 |
21420 |
|
18-24 |
9231 |
39276 |
9172 |
35400 |
93480 |
186999 |
||
|
25-49 |
29156 |
129970 |
24710 |
120332 |
||||
|
50-54 |
22871 |
37959 |
13260 |
27429 |
8660 |
21380 |
9752 |
18850 |
|
55-59 |
31717 |
55496 |
9582 |
20726 |
9585 |
19685 |
||
|
60 и старше |
29409 |
41574 |
19845 |
36970 |
19397 |
39494 |
||
|
Итого |
415221 |
479453 |
264436 |
447983 |
223155 |
401274 |
279027 |
418862 |
Примечание: составлено по: ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 3. Д. 118. Л. 39; Оп. 7. Д. 21. Л. 22, 22об.; Оп. 17. Д. 4. Л. 12, 21, 26
Наибольшее число сельских мигрантов отправилось на фронт, правда, точное их количество неизвестно. По сведениям Военного комиссариата УАССР с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. в республике в армию было призвано 234128 военнообязанных сержантского и рядового состава запаса (из них 3196 женщин). Кроме того, за 1941–1944 гг. было мобилизовано 4905 офицеров, но сколько среди них было женщин или селян, в источнике также не говорится. Итого 239033 чел. В историографии закрепилось мнение о том, что именно такое количество жителей Удмуртии ушло на фронт. Однако, судя по материалам миграции горожан, в армию было направлено не более 45,8 тыс. городских мужчин республики4. Поэтому скорее всего в отчет включено количество мобилизованных, оставшихся после призыва на территории республики.
Упоминания о том, что годные к нестроевой службе и негодные к службе в войсковых частях, но годные к физическому труду призывались военкоматом, затем направлялись на промышленные предприятия и прописывались в городе, встречаются в документах республиканского ста-туправления, хотя их количество не называется. В 1941–1945 гг. 28806 военнообязанных запаса и военнослужащих, годных к нестроевой службе и негодных к службе в воинских частях, но годных к физическому труду, было призвано военкоматами и передано в промышленность. В источниках также показано их распределение по годам и наркоматам5.
Возможно, в отчет республиканского военкомата были включены не только жители Удмуртии. В источнике есть указания на то, что в 1942–1943 гг. в республике было призвано в армию 58408 военнообязанных и призывников из числа эвакуированных из других областей и что за 1941– 1945 гг. были выписаны из госпиталей и повторно отправлены на фронт 18538 военнослужащих6.
Архивные материалы позволяют также определить минимальную численность жителей Удмуртии, призванных в армию. По данным отдела по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при СНК УАССР на 1 января 1945 г. в Удмуртской АССР на учете состояло 128968 семей военнослужащих, из них 30954 семей – в городах, 98014 – в сельской местности. Из этого количества необходимо вычесть число эвакуированных семей военнослужащих, которых насчитывалось 4414, из них 2555 проживали в городах, а 1858 – в сельской местно-сти7. Конечно, реальное количество призванных в армию может быть большим, поскольку из одной семьи могли мобилизовать сразу несколько человек.
Сведений о том, сколько селян Удмуртии не вернулись с фронта, также не существует. В республиканскую Книгу Памяти внесены имена 133 тыс. погибших и пропавших без вести [Книга Памяти …, 2000, т. 9, с. 8]. Из нее можно вычленить только жителей Ижевска. Подсчеты численности по районам (кроме Кезского) Удмуртии и городским пунктам без Ижевска дают цифру в 102,2 тыс. чел.
Первыми с фронта стали возвращаться воины, получившие увечья. На 1 ноября 1944 г. органами социального обеспечения республики было учтено 10652 инвалида Великой Отечественной войны, из которых в сельской местности проживало 8041 чел., в том числе 123 инвалида I группы, 1916 – II и 6002 – III. В сельском хозяйстве было трудоустроено 4641 чел. Инвалиды в меру своих сил и возможностей восполняли недостаток трудовых ресурсов. На 1 апреля 1945 г. 681 чел. работали председателями колхозов, 542 – бригадирами, 650 – счетоводами8.
Официально демобилизация началась в 1945 г. и проводилась в несколько очередей. К 1 марта 1946 г. в республику прибыл 26931 демобилизованный, из них 20229 – в сельскую местность. К 15 августа 1947 г. в республику возвратилось 48210 демобилизованных, в том числе 34837 – в сельскую местность. Из них было трудоустроено в колхозах и совхозах 28594 чел.9 К концу 1947 г. по данным Книги Памяти (другие данные не обнаружены) вернулось 118,8 тыс. чел. Судя по контексту, имеются в виду все, кто к тому времени вернулся с фронта, в том числе в период войны, например инвалиды [Книга Памяти … 1993, т. 1, с. 14]. Скорее всего, в это число вошли и те, кто уцелел из призванных до начала войны. По мнению С. П. Зубарева, приблизительно 25 тыс. призванных из Удмуртии встретили войну на службе в армии и на флоте [ Зубарев , 1990, с. 8].
Значительная часть сельского населения в годы войны была мобилизована на работу в промышленность и на учебу в школы ФЗО и ремесленные училища. Окончившие школы и училища направлялись на заводы и становились горожанами. Отметим, что миграция селян в городские населенные пункты также имела плановый характер и протекала в основном организованно, без самотека.
Вопрос о том, какое количество сельского населения было мобилизовано для работы или учебы в городах, тоже является непростым. Еще в 1956 г. Н. А. Мошкин утверждал, что всего на промышленные предприятия республики из сельских районов пришли работать 58900 молодых рабочих [ Мошкин , 1956, с. 10]. На него стали ссылаться другие исследователи, но поскольку Н. А. Мошкин не указал источники сведений, принимать приводимую им цифру нужно осторожно.
Учет мобилизованных на работу в промышленность в военные годы был поставлен плохо. Бюро по учету и распределению рабочей силы при СНК УАССР было образовано только в 1943 г. Планы мобилизаций чаще всего не выполнялись. Рост военных тягот с каждым годом усугублял ситуацию с трудовыми ресурсами. Так, в первом полугодии 1943 г. план мобилизации на работу в промышленность и строительство был выполнен на 55,4%: из 9690 чел., подлежащих мобилизации, работали 5372 чел., из них 3518 чел. – из сельской местности. В 1944 г. план мобилизации на постоянную работу в промышленность удалось обеспечить на 63%: из 15920 чел., подлежащих мобилизации, работали 10038 чел., в том числе из сельской местности – 8104 чел. В 1945 г. отмечались случаи укрывательства отдельными колхозами подлежащих мобилизации рабочих в целях использования их для внутриколхозных работ. Выдвигались и лица, по физическому состоянию не пригодные для работы на предприятиях, – инвалиды, больные трахомой, беременные10.
Мобилизация на учебу в ремесленные училища и школы ФЗО по оргнабору происходила с еще бóльшим трудом. Кроме нехватки людей существовала еще одна проблема, которую охарактеризовал начальник Управления трудовых резервов УАССР. Объясняя причины затягивания призыва в школы ФЗО и ремесленные училища, он отмечал в ноябре 1943 г., что руководители районов совсем прекратили мобилизацию на учебу, считая, что у них есть более важные задания, за выполнение которых с них больше спрашивают: мобилизация рабочей силы на заводы, на торфоразработки, лесозаготовки и т.д. Более того, уже мобилизованных в школы ФЗО посылали на другие работы. Например, в Кизнерском районе 40 мобилизованных в школы ФЗО направили на лесозаготовки за 80 км от него, аналогичные факты имелись еще как минимум в восьми районах республики.
Дефицит людских ресурсов привел к тому, что в конце 1943 г. призыв в школы ФЗО и ремесленные училища проводился в сельской местности в значительной степени и в городах почти полностью за счет учащихся Наркомпроса. Из районов республики в 1942 г. в школы ФЗО было мобилизовано 1635 из 2000 чел. по плану, или 81,6%; в 1943 – 4656 из 6505 чел. по плану, или 71,6%. В ремесленные училища из районов в 1943 г. было мобилизовано 1646 из 1750 чел. по плану, или 94,1%11. Но и не все поступившие учиться доучивались. Например, к 1 сентября 1943 г. число дезертировавших из ремесленных училищ и школ ФЗО достигло 1439 чел. Всего в 1941–1945 гг. для промышленности (в том числе за пределами республики) было подготовлено ремесленными училищами Удмуртии 10986 молодых рабочих, школами ФЗО – 2218112 (в источниках не показано их распределение на селян и горожан, юношей и девушек).
Однако часть пришедших на заводы рабочих впоследствии уходила. Например, на крупнейший в республике Ижевский машиностроительный завод (№ 74) в 1941 г. пришло работать 22047 чел., а покинуло его 7572 чел., в 1942 – соответственно 12201 и 12563, в 1943 – 8396 и 6823, в 1944 – 2869 и 6902.13 Причины ухода были самыми разными. Очень многие дезертировали. С завода № 74 в 1942 г. самовольно ушло 4563 чел., в 1943 – 3288. Условия работы были трудными, бытовая обстановка – неудовлетворительной. Крайне острой была проблема обеспечения жильем, не хватало одежды, обуви, продовольствия. Поскольку военкоматы на заводы мобилизовали и негодных к воинской службе, среди рабочих была высокая смертность. Многим ВТЭК давали инвалидность . Например, из-за болезней, инвалидности, смерти в 1942 г. на заводе № 74 прекратили работу 2341 чел., в 1943 – 124414.
Определить количество селян, перебравшихся в города Удмуртии в годы войны, можно с помощью материалов о механическом движении населения. В 1941–1944 гг. из сельской местности УАССР в городские поселения республики прибыло 94,8 тыс. чел., в обратном направлении выбыло 53,9 тыс. чел. Однако число уехавших часто недоучитывалось, с поправкой на негэтоо выбывшие составили 56,6 тыс. чел.15 Баланс определялся примерно в 38,2 тыс. чел. в пользу городов. Правда, признавать эту цифру окончательной нельзя. Как было сказано, селяне могли попасть в город еще и другим путем: сначала годные к нестроевой службе и негодные к службе в войсковых частях, но годные к физическому труду призывались военкоматом, затем устраивались на промышленных предприятиях и прописывались в городе.
Статистические органы собирали также сведения о распределении мигрантов по полу и возрасту, при этом без указания места их убытия и прибытия. Но, поскольку в 1941–1944 гг. прибывшие в города Удмуртской АССР из сельской местности республики составили около 76% от всех прибывших из сельской местности (столько же составили выбывшие), анализ половозрастного со- става даст представление о миграции по направлениям «село – город» и «город – село» в республике.
Прибывшие в 1941–1944 гг. в города Удмуртии из сельской местности распределились по полу практически одинаково: женщины – 63612 чел. (51,1%), мужчины – 60917 чел. (48,9%). Всего в 1941 г. приехало 50213 чел., в 1942 – 27488, в 1943 – 26569, в 1944 – 20259. Преобладание мужчин в среде сельских мигрантов наблюдалось лишь в 1941 г. – 55,9%, в 1942 г. их доля составила 45,1%, в 1943 – 46,3%, в 1944 – 40,3%. В 1941 г. 14,9% прибывших в города составляли дети (0–13 лет), в 1942 – 11,5%, в 1943 – 9%, в 1944 – 9,8%.
Больше всего в среде прибывавших лиц мужского пола было 14–17-летних юношей: в 1941 г. – 21,5%, в 1942 – 28,1%, в 1943 – 33%, в 1944 – 48,3%. Именно в этом возрасте их призывали в ремесленные училища (14–15 лет) и школы ФЗО (15–17 лет). Обращает на себя внимание значительное увеличение удельного веса 14–15-летних юношей в группе прибывавших в город мужчин из сельской местности: в 1941 г. они составляли 3,2%, в 1942 – 4,4%, в 1943 – 11%, в 1944 – 13,9%. Это свидетельствует об истощении людских ресурсов в деревне к концу войны.
Девушек на учебу призывали в более старшем возрасте: в 15–16 лет – в ремесленные училища и в 16–18 лет – в школы ФЗО. Доля 15–18-летних мигранток в числе прибывших женщин в городские пункты Удмуртии из сельской местности в 1941 г. составила 23,7%, в 1942 – 33,6%. В 1943 и 1944 гг. доля 14–18-летних мигранток (статистика в эти годы учитывала более крупные группы) достигала 35,8 и 46,5% соответственно. Также много переезжало в города 19–20-летних девушек-селянок: их доля в 1941 г. была равна 10,4%, в 1942 – 13,2%, в 1943 – 12,3%, в 1944 – 9,6%. Скорее всего, их направили непосредственно в промышленность.
Что касается выбывших из городов республики в сельскую местность, то женщины численно превосходили мужчин – 40,2 тыс. чел. (56,4%) против 31 тыс. чел. (43,6%). По годам они распределились так: в 1941 г. переехало в город 16214 женщин и – 13749 мужчин, в 1941 – 11331 и 8693 соответственно, в 1943 – 6258 и 4714, в 1944 – 6359 и 387016. Выходит, что в городской местности закрепилось больше сельских мужчин.
Кроме того, сельское население Удмуртской АССР организованно переселялось за пределы республики. Например, в 1943 г. из колхозов Удмуртии в рыболовецкие колхозы и на предприятия Наркомрыбпрома СССР в Архангельскую, Мурманскую, Камчатскую области и Бурят-Монгольскую АССР было отправлено 1913 семей в количестве 6517 чел., из них 2042 мужчины и 4475 женщин. Трудоспособными (старше 16 лет) были 56% переселенцев, удмуртами – 4974 чел.17
Убыль селян в годы войны была частично компенсирована прибытием эвакуированного гражданского населения (табл. 3). Максимальное количество эвакуированных, размещенных в республике, пришлось на 1 июля 1943 г. – 78366 чел., из них на селе – 35970 чел. [ Родионов , 1986, с. 147]. После июля 1943 г. численность эвакуированных граждан в республике стала сокращаться, прием их был прекращен, а через некоторое время началась реэвакуация, практически завершившаяся в 1948 г. [ Родионов , 1991, с. 200].
Таблица 3
Численность эвакуированного гражданского населения в Удмуртской АССР (по данным Отдела по хозяйственному устройству эвакуированных при СНК УАССР), чел.
|
Местность |
На 1 июня 1942 г. |
На 1 июля 1943 г. |
На 1 января 1944 г. |
На 1 декабря 1944 г. |
На 1 февраля 1946 г. |
На 1 января 1947 г. |
|
Сельская |
30802 |
35970 |
27991 |
12216 |
4395 |
1712 |
|
Всего |
63554 |
78366 |
54612 |
27899 |
14907 |
10154 |
Примечание: составлено по: Родионов, 1986, с. 147; ЦГА УР. Ф. Р-755. Оп. 1. Д. 165. Л. 1, 77, 78, 79; Д. 234. Л. 6, 73, 74
Стоит уточнить, что Отдел по хозяйственному устройству эвакуированных (до 1942 г. – Переселенческий отдел) при СНК УАССР относил к сельскому населению жителей сельских населенных пунктов, а также поселков городского типа. Поэтому его данные, которыми чаще всего ис- следователи и пользуются, расходятся с данными Статистического управления Удмуртской АССР. Оно же к сельскому населению относило только жителей сельских населенных пунктов, а жителей поселков городского типа считало горожанами. По единовременным отчетам о возрастном и половом составе сельского населения, которые составлялись Статуправлением УАССР с 1943 г., на 1 января 1943 г. в сельской местности республики проживало 26428 эвакуированных, из них 8577 мужчин, на 1 января 1944 – соответственно 18015 и 8581 чел., на 1 января 1945 – 5241 и 1787 чел. Как видно, различие очень существенное, поэтому в работе с источниками его нужно учитывать.
Еще одним важным источниковедческим замечанием будет следующее. В единовременных отчетах о возрастном и половом составе сельского населения эвакуированных относили к категории «временно проживающее население». Едва ли правомерно причислять всех временно проживавших к эвакуированным. Например, в отчете на 1 января 1944 г. по Удмуртской АССР временно проживавших учтено всего 31196 чел., но есть приписка, согласно которой из них эвакуированных – 18015. Да и в более поздних отчетах, составлявшихся после завершение реэвакуации, категория временно проживавших не исчезла.
Среди эвакуированных, разместившихся в сельской местности Удмуртии, преобладали дети, женщины и старики. Половозрастной состав переселенцев, устроившихся в деревне республики, можно представить лишь приблизительно. На 1 января 1943 г. в Удмуртской АССР доля эвакуированных в числе временно проживавших в сельской местности составила 76,5%, на 1 января 1944 – 57,7%, на 1 января 1945 – 30,4%18. Поскольку наибольшая доля эваконаселения пришлась на 1943 г., проанализируем половозрастной состав временно проживавших на 1 января этого года (табл. 4).
Распределение временно проживавшего населения в сельской местности Удмуртской АССР по полу и возрасту, чел.
Таблица 4
|
Возраст, лет |
На 1 января 1943 г. |
На 1 января 1944 г. |
На 1 января 1945 г. |
|||
|
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
|
0-3 |
3984 |
3984 |
1333 |
1303 |
563 |
599 |
|
4-7 |
2061 |
2003 |
1058 |
1029 |
||
|
8-13 |
2684 |
2899 |
2071 |
2398 |
1951 |
2367 |
|
14-15 |
992 |
1219 |
756 |
1058 |
||
|
16-17 |
562 |
1087 |
706 |
900 |
1914 |
5507 |
|
18-24 |
480 |
2591 |
744 |
2062 |
||
|
25-49 |
1714 |
7791 |
1908 |
5992 |
||
|
50-54 |
637 |
1335 |
637 |
924 |
612 |
927 |
|
55-59 |
854 |
1775 |
452 |
728 |
||
|
60 и старше |
411 |
892 |
261 |
460 |
||
|
Итого |
11907 |
22617 |
11079 |
18260 |
6359 |
10889 |
Примечание: составлено по: ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 3. Д. 118. Л. 39; Оп. 17. Д. 4. Л. 10, 23, 26
Всего временно проживавших в Удмуртии на 1 января 1943 г. насчитывалось 34524 чел., что составляло 4,8% от всех жителей села. Этот показатель был гораздо меньшим, чем средний по Уралу, определяемый в 8,2%. Из 34524 чел. женщин было 22617 (65,5%), их число в 1,9 раза превосходило число лиц мужского пола (34,5%). На Урале распределение по полу было почти таким же – 64 и 36%. Удельный вес детей (0–15 лет) на Урале достигал 43,8%, в Удмуртии – 45,7%. Доля трудоспособных мужчин (16–54 года) в Удмуртии равнялась 9,8%, на Урале – 12,5%.
Таким образом, 87,5% временно проживавших в уральской деревне в начале 1943 г. составляли женщины, дети и старики [Корнилов, 1993, с. 70], в деревне Удмуртии их было еще больше – 90,2%. Так как 76,5 % временно проживавших были эвакуированными, можно сделать вывод о том, что их состав был почти таким же. Материалы показывают, что возникшая в ходе войны диспро- порция в сельском населении региона, связанная с преобладанием женщин и детей, в ходе эвакуации еще больше увеличилась.
Размещение эвакуированных в сельской местности Удмуртии лишь в малой степени компенсировало отсутствие значительной части трудоспособного сельского населения в связи с отправкой его на фронт, учебу в городе или работу в промышленность. Например, на 1 июля 1943 г. в колхозах, совхозах и МТС республики было трудоустроено всего 9484 эвакуированных19. Тем не менее не следует забывать о самоотверженном труде этих людей.
Во время войны значительная часть сельских жителей Удмуртии была вовлечена во временную миграцию. Круглогодично сельское население всех районов республики мобилизовали на лесозаготовки, активнее всего – осенью и зимой. Заготовка леса велась в принадлежавших лесозаготовительным организациям лесопунктах, находившихся на большом удалении от колхозов, и порой колхозникам приходилось преодолевать несколько десятков километров, чтобы добраться до места назначения. От колхозника, участвовавшего в трудгужповинности на лесозаготовках, требовалось выполнение за лесозаготовительный сезон фиксированного объема работы. Например, в осеннезимний сезон 1942–1943 гг. пеший должен был выработать 100 дневных норм, возчик с лошадью – 9020. Однако обычной была практика замены трудившихся в лесу крестьян, что еще больше усиливало миграцию в республике.
Итоговых данных о количестве мобилизованных на лесозаготовки во время войны нет, имеется информация лишь за последние годы войны. Например, в 1944 г. на лесозаготовках и сплаве было задействовано 36511 пеших селян и 18313 возчиков с лошадьми, в 1945 г. – 22260 пеших колхозников и 6472 возчика21. Всего за годы войны силами колхозников было заготовлено и вывезено 13 млн. кубометров древесины [Удмуртия…, 1957, с. 129].
Привлекались крестьяне к торфоразработке, хотя в меньших масштабах, но на более длительный срок. Например, в 1943 г. на торфоразработки было направлено 2278 пеших колхозников сроком на 7 месяцев. С 1 апреля по 15 ноября 1944 г. из сельского трудоспособного населения 25 районов мобилизовали 2935 чел., с 15 апреля по 15 ноября 1945 г. – 2410 чел.22
На строительные работы каждая крестьянская семья Удмуртской АССР в 1941 г. затратила 9 человеко-дней, в 1942 – 17, в 1943 – 8 [ Белослудцев, Кутявин , 1950, с. 10]. Трудовым подвигом крестьянства Удмуртии стало строительство стратегически важной железной дороги Ижевск – Балези-но длиной около 150 км. Всего было организовано пять массовых выходов колхозников 29 районов на ее строительство. В самый массовый выход (май–июнь 1942 г.) насчитывалось 20175 пеших колхозников и 5794 возчика с лошадьми23.
Отправка в армию, на работу в промышленность и на учебу наиболее трудоспособной, в основном мужской, части сельского населения, прибытие эвакуированных, в основном женщин и детей, сильно деформировали половозрастную структуру сельского населения Удмуртии во время войны (табл. 2). Имеющиеся статистические данные не позволяют сопоставить все возрастные когорты, но дают возможность понять всю катастрофичность воздействия войны на сельское население республики. В 1939–1948 гг. отмечалось небольшое численное преобладание девочек над мальчиками (0–15 лет). Начиная с 16 лет, разрыв в соотношении мужчин и женщин увеличивается, достигнув к 1 января 1945 г. соотношения 1:4,9 в наиболее дееспособном (25–49 лет) возрасте. Таким образом, деревня Удмуртии осталась почти без трудоспособных мужчин – к началу 1945 г. в колхозах республики насчитывалось около 28 тыс. трудоспособных мужчин старше 16 лет24.
Подытоживая исследование, можно сказать, что Великая Отечественная война вызвала беспрецедентное территориальное перемещение сельского населения Удмуртии. Миграция сельского населения республики очень сильно изменила его состав, что отрицательно повлияло на воспроизводственные процессы и развитие сельского хозяйства региона в годы Великой Отечественной войны и после нее. В то же время уход значительного количества селян в армию, переезд в города явились важными факторами Победы.
Список литературы Миграция сельского населения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны
- Белослудцев В. П., Кутявин И. Ф. Сельское хозяйство Удмуртии в годы Великой Отечественной войны//Зап. Удм. НИИ. Ижевск, 1950. Вып. 13. С. 3-21
- Зубарев С. П. В боях за Родину: о ратных подвигах сыновей и дочерей Удмуртии. Ижевск, 1990. 472 с.
- Корнилов Г. Е. Миграция сельского населения Уральского региона в годы войны//Отеч. история. 1993. № 3. С. 67-82
- Корнилов Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Свердловск, 1990. 222 с
- Мошкин Н. А. Патриотизм трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Ижевск, 1956. 71 с
- Население России в ХХ в.: в 3 т. Т. 2. 1940-1959 гг./отв. ред. Ю. А. Поляков. М., 2001. 416 с
- Потемкина М. Н. Эваконаселение в уральском тылу (1941-1948 гг.). Магнитогорск, 2006. 265 с
- Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения в Удмуртской АССР (1941-1945 гг.)//В годы суровых испытаний: о ратном и трудовом подвиге сынов и дочерей Удмуртии: сб. ст. Устинов, 1986. С. 141-166
- Родионов Н. А. Реэвакуация советских и иностранных граждан из Удмуртской АССР в 19431948 гг.//Новые исследования по истории Удмуртии. Ижевск, 1991. С. 186-205
- Уваров С. Н. Миграция сельского населения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны: историография вопроса//XX век и Россия: общество, реформы, революции. Самара, 2013. Вып. 1, ч. I. URL: http://sbornik.lib.smr.ru/. С. 92-101 (дата обращения: 23.07.2013).
- Книга Памяти Удмуртской Республики. Ижевск, 1993-2000. Т. 1-9
- Удмуртия за 40 лет Советской власти: сб. материалов. Ижевск, 1957. 258 с