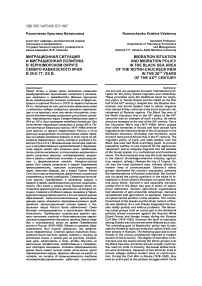Миграционная ситуация и миграционная политика в черноморском округе Северо-Кавказского края в 20-е гг. XX в
Автор: Романченко Кристина Витальевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Право почвы и право крови являются главными международными принципами политики в отношении миграции и гражданства. Данные принципы были традиционной основой политики в сфере миграции в царской России и СССР (в первой половине XXв.). Несмотря на это, российское правительство и советские лидеры старались привлечь переселенцев из-за границы, если они могли послужить социально-экономическому развитию российских регионов. Черноморский округ Северо-Кавказского края в 20-е гг. XX в. был примером подобной политики. Его этническая структура сложилась в конце XIX в. После окончания Кавказской войны (1817-1864) этнические группы из других территорий России и из-за границы мигрировали на исторические земли черкесов на Северо-Западном Кавказе (в том числе на обширные территории, часть которых входила в Киевскую Русь в X в.). Миграционная политика партийных и государственных руководителей в Черноморском округе имела три главные цели: предотвратить отток населения; использовать мигрантов в целях развития региона; интегрировать мигрантов в реалии советской системы в цивилизационном и формационном смысле. Новороссийский район был самым развитым в округе (наукоемкая промышленность, сельское хозяйство, морской порт, железная дорога), как и город Туапсе. Район Сочи был самым отсталым, фактически лишенным современных путей сообщения. Славянские этнические группы преобладали в населении округа, в первую очередь представители русской национальности. При этом в районе Сочи базовую долю составляли армяне (русские находились на второй позиции). Славяне и особенно немцы занимали в Черноморском округе первое место с то чки зрения уровня образования. Сельскохозяйственные организации немцев имели элементы агропромышленных предприятий. Цивилизационная основа греков и титульных наций России была идентичной. Греки быстро интегрировались в российскую действительность. Трудящиеся социальные группы приняли активное участие в большевистском партизанском вооруженном движении против Белой гвардии и иностранных войск во время Гражданской войны в России (1918-1920). Однако их уровень образованности был низким (женщины, как правило, были неграмотны). Главной целью политики большевиков было научить греков читать и писать на греческом языке, а затем уже на русском. Следующая цель заключалась в том, чтобы обучить их различным профессиям, необходимым в современных секторах экономики. Степень образованности армян была самой низкой среди этнических групп Черноморского округа. Армянки обычно не умели ни читать, ни писать. В промышленности наиболее низкоквалифицированными рабочими выступали армяне. Крестьяне этой национальности жили в отдаленных деревнях без современных путей сообщения. Во время Гражданской войны они приняли активное участие в партизанской борьбе в Сочинском районе против сил Белой гвардии, но их отряды нельзя считать прокоммунистическими. Как правило, армяне имели локальные (даже не региональные) взгляды и равнодушно относились к политике. Еврейская община была хорошо образованна, высокоорганизованна и замкнута. Стандартный принцип (не византийский) служил ключевым ориентиром для ее членов в построении взаимодействий к другими этническими группами. Еврейская община являлась единственным объектом эмиграционных планов советских лидеров. Это была внутренняя эмиграция в пределах территории Советского Союза. Еврейской общине Черноморского округа было уготовано мигрировать в те районы Дальнего Востока, где советские руководители запланировали создать автономию административного типа.
Право почвы, право крови, миграция, эмиграция, гражданство, черноморский округ, гражданская война в России (1918-1920), образование, ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/149134971
IDR: 149134971 | УДК: 325.1(470.62/.67)“192” | DOI: 10.24158/fik.2021.4.13
Текст научной статьи Миграционная ситуация и миграционная политика в черноморском округе Северо-Кавказского края в 20-е гг. XX в
После распада Советского Союза Черноморское побережье Краснодарского края оставалось единственным выходом в Черное море для Российской Федерации вплоть до весны 2014 г., когда Крым вошел в состав РФ. Однако и после этого Краснодарский край служит ключевым связующим звеном между Крымским полуостровом и остальной частью страны. При этом Черноморское побережье Кубани играет здесь далеко не последнюю роль.
Между тем на данной территории, представляющей собой здравницу в масштабах всей Российской Федерации и морские ворота РФ, поныне происходят сложные и неоднозначные процессы [1]. Чтобы действовать в этом регионе более эффективно, необходимо понимать их, знать прошлое Черноморья, включая этнические и миграционные коллизии, наблюдаемые здесь относительно недавно, в 20-е гг. прошлого века. Исходя из сказанного, тема представленной статьи является актуальной.
Объектом исследования выступают этнические и миграционные вопросы. Предметом – миграционная ситуация и миграционная политика властей СССР в Черноморском округе СевероКавказского края в 20-е гг. XX в. Хронологические рамки статьи не ограничиваются этим временем, сделаны экскурсы в более ранние периоды XIX в., когда в целом сложилась современная этническая структура Черноморского побережья Краснодарского края, а также в начало XXI в., когда предпринимались попытки выделить Черноморское побережье из состава Краснодарского края и создать здесь Черноморский край [2].
Цель статьи – изучить миграционную ситуацию в Черноморском округе Северо-Кавказского края в 20-е гг. XX в. и миграционную политику советских властей на Черноморье. Исходя из этого, поставлены следующие задачи:
-
– во-первых, проанализировать этнический состав населения округа в период после Гражданской войны в России 1918–1920 гг.;
-
– во-вторых, дать краткую характеристику ситуации относительно каждой из этнических общностей округа;
-
– в-третьих, выявить миграционные процессы, имевшие место на Черноморье в рассматриваемый период;
-
– в-четвертых, показать содержание политики местных властей в вопросах миграции;
-
– в-пятых, дать общий обзор результатов миграционной политики партийных и советских органов в округе в рассматриваемый период.
Методологической базой исследования стали принципы историзма и научной объективности. При подготовке работы использовались главным образом принципы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления.
Основной источниковой базой работы послужили материалы Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр документации новейшей истории Краснодарского края» (далее – ЦДНИКК). Выдержки из них в большинстве случаев используются впервые. Следующая значимая группа источников – справочные материалы и нормативные акты.
Исследования, так или иначе затрагивающие миграционную ситуацию и миграционную политику в Черноморском округе Северо-Кавказского края в 20-е гг. XX в., имеются в отечественной исторической науке. Их можно условно подразделить на две основные группы: общую и специальную. В работах общей группы исследуются в целом миграционная ситуация и миграционная политика на Юге России и его крупных областях. Здесь полезно указать на труды В.З. Акопяна [3], А.В. Баранова [4], Е.А. Зуйкиной [5], О.В. Матвеева, В.Н. Ракачева, Д.Н. Ракачева и Я.В. Ра-качевой [6]. Публикации специальной группы касаются отдельных аспектов миграционной ситуации и миграционной политики в регионе в рассматриваемый период, а также в отдельных местностях Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа. Здесь целесообразно отметить работы О.В. Бершадской [7], И.А. Тверитинова [8], А.А. Черкасова и В.И. Меньковского [9].
Особо хотелось бы выделить статью О.В. Бершадской о греках и армянах в Сочинском районе [10]. Это первая попытка в отечественной исторической науке исследовать два самых многочисленных (после славянского населения) этноса Черноморского побережья Кубани. Однако данная работа территориально ограничена пределами лишь современного Большого Сочи и не охватывает все Черноморское побережье Северо-Западного Кавказа.
Миграционная ситуация и миграционная политика применительно к Черноморскому побережью современного Краснодарского края и периода 20-х гг. XX в. еще не были предметом специального рассмотрения в науке. Предлагаемая работа представляет собой попытку восполнить указанный пробел. В этом состоит ее научная новизна.
Территория Черноморского округа Северо-Кавказского края была заселена в глубокой древности. В период Античности здесь находились греческие колонии, и греческое население – один из старейших этносов Северо-Западного Кавказа.
С X в. западная часть Северо-Западного Кавказа вошла в состав Тмутараканского княжества, которое распространило влияние далеко за пределы своих государственных границ. Княжество затем дало бесспорный аргумент руководству Российской империи при Екатерине II в обоснование законности включения (вернее сказать – возвращения) Северо-Западного Кавказа в состав России, которая в раннем Средневековье называлась Киевской Русью или Древней Русью. Ведь в состав иных государств (Золотой Орды, Османской империи) Черноморье было включено уже после гибели Тмутараканского княжества.
Между тем территория Черноморья прочно вошла в состав России не так давно, а именно в соответствии с Адрианопольским мирным договором 1829 г. с Османской империей. Однако, формально находясь в составе султанской Турции, эта территория фактически входила в состав земель черкесов, одного из самых многочисленных этносов Центрального Кавказа.
Черкесия – это территория, включающая всю современную Республику Адыгею, территорию Карачаево-Черкесской Республики и Краснодарского края южнее рек Кубани и Лабы (за исключением Таманского полуострова). Черкесы были одним из самых многочисленных этносов Центрального Кавказа. Они находились на переходной стадии от родоплеменного строя к государству, ничьими поданными себя не считали, в том числе подданными османских султанов, и фактически были самостоятельными. Поэтому передача Турцией России в 1820 г. Черноморского побережья Кавказа не означала установления здесь власти Санкт-Петербурга. За обладание этими землями России пришлось вести изнурительную и длительную Кавказскую войну (1817–1864).
Для черкесов российская победа в этой войне обернулась катастрофой. Потерпев поражение, они согласились войти в состав России на правах политической автономии, в то время как российская сторона предлагала административную автономию [11]. В результате большинство черкесов вынуждено было выселиться в Турцию. Оставшиеся в основном были переселены на низкий левый берег рек Лабы и Кубани с тем, чтобы поселения черкесов находились под постоянным надзором расположенных на правом высоком берегу казачьих станиц. Впрочем, жители черкесских (адыгских) аулов довольно быстро интегрировались в российские структуры, впоследствии активно участвовали на стороне России во всех войнах, которые та вела, и российские (а потом советские) власти этому этносу вполне доверяли наравне с государствообразующими нациями.
Обычно в изгнании черкесов принято обвинять исключительно Россию. При этом не учитываются некоторые особенности исламизма (панисламизма), который пришел на смену осма-низму в Турции во второй половине XIX в. Если османизм исходил из того, что все подданные Османской империи являются османами и признавал естественным многонациональный и многоконфессиональный состав Турецкого государства, то исламизм базировался на том, что в интересах Турции целесообразно сделать ее население однородным в этническом отношении, т. е. добиться того, чтобы только мусульмане населяли империю.
В рамках этого курса Стамбул поощрял выселение из пределов Турции немусульман (прежде всего армян и греков) с одновременным компенсационным заселением турецких территорий мусульманами из-за границы. Например, из Черкесии, а точнее «из Екатеринодарского и Лабинского округов Кубанской области», «в 1889 г. 9 100 мусульманских семей переселилась в Турцию». «В 1891 г. в Турцию переселилось еще 5 000 мусульман, которых разместили в окрестностях Самсуна, Синопа и Сиваса» [12, с. 194].
Отмечая, что «София на Балканах» и «Ереван были (вплоть до 1828 г.) провинциями с мусульманским большинством», турецкий исследователь Т. Атаёв указывает, что христиане стали доминировать в численности населения указанных земель только с потерей этих территорий Османской империей. Тогда же, продолжает он, армяне стали тем этническим элементом, переселение которого из Турции на Кавказ обеспечило преобладание в численности христианскому этническому элементу над мусульманами в этом регионе [13, р. 11-12]. Данное утверждение вполне обоснованно для Черноморья не только конца XIX в., но даже первой трети XX в. [14, л. 1].
После окончания Кавказской войны Черноморское побережье Северо-Западного Кавказа вошло в состав Кубанской области в качестве Черноморского округа. В 1896 г. последний был преобразован в Черноморскую губернию, которая узкой полосой, ограниченной с северо-востока Кавказским хребтом, а с юго-востока - Черным морем, протянулась от Новороссийска до границ Сухумского округа. 11 мая 1920 г. он был преобразован в Черноморский округ в составе Кубано-Черноморской области. Во исполнение договора между Грузинской Демократической Республикой и РСФСР от 7 мая 1920 г. в конце июня 1920 г. Гагринский район был изъят из состава РСФСР (а следовательно, и из состава Черноморского округа) и передан в состав Грузии.
В феврале 1921 г. на территории Северного Кавказа была образована Юго-Восточная область в составе Донской, Кубано-Черноморской областей Терской и Ставропольской губерний. Затем Юго-Восточная область была упразднена в связи с вхождением в состав образованного 16 октября 1921 г. Северо-Кавказского края. Эта обширная административно-территориальная единица, границы которой совпадали с таковыми Северо-Кавказского экономического района и Северо-Кавказского военного округа (что было удобно с точки зрения хозяйственного развития и обороны), включила в себя территории Юго-Восточной области и национальных автономий Центрального Кавказа. В 1934 г. Из Северо-Кавказского края был выделен Азово-Черноморский край, включавший приблизительно границы современных Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея. Наконец, 13 сентября 1937 г. Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский край, в состав которого вошла Адыгейская автономная область, и Ростовскую область.
Находясь в границах Кубано-Черноморской области, Черноморский округ стал впоследствии частью Юго-Восточной области, а затем Северо-Кавказского края, будучи в прямом подчинении краевого центра. 13 июля 1930 г., однако, Черноморский округ был упразднен, а его районы перешли в прямое подчинение Северо-Кавказского края.
Создавая Черноморскую губернию, власти царской России рассчитывали на то, что осваивать ее будут состоятельные люди, которым казна довольно дешево продавала обширные земельные массивы у побережья. Намечая основное предназначение данной территории как места отдыха для знати, руководство Российской империи предполагало, что Новороссийск и прилегающий к нему район станут промышленным центром в рамках не только Кавказа, но и всей страны. В конце XIX в. Новороссийск связали железной дорогой с центральными районами России. В начале XX в. железную дорогу проложили к Туапсе. Шоссе Новороссийск - Сухум, построенное в 90-е гг. XIX в., по существу, представляло собой почтовый тракт и было мало приспособлено для полноценного движения транспорта.
Новороссийск и Туапсе стали крупными черноморскими портами и промышленными центрами. Особенно это относится к Новороссийску. Остальные территории Черноморского округа между Новороссийском и Туапсе и далее от Туапсе до границы Сухумского округа представляли собой отсталые сельскохозяйственные окраины Российской империи, лишенные железных дорог и иных более или менее удобных путей сообщения. Надежды на их освоение российским капиталом и богатыми меценатами себя не оправдали.
Именно в этих отсталых районах концентрировалась основная масса неславянского населения, в то время как славяне проживали главным образом в Новороссийске и прилегающем к нему районе [15, л. 1]. Руководство Черноморского округа и партийные организации ВКП(б) на этой территории при выработке миграционной политики руководствовались прежде всего установками союзного центра. Как и в царской России, в Советском Союзе вплоть до середины 50-х гг. XX в. в основе подхода к вопросам гражданства и миграции лежали право почвы и право крови [16]. Например, в 1921 г. Наркомат иностранных дел активно встал на защиту лиц русской национальности, оставшихся на территории Карской области, которая отошла к Турции по условиям Договора о дружбе и братстве, заключенного 16 марта 1921 г. в Москве между Турцией и Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой. Народный комиссар иностранных дел Г.В. Чичерин протестовал против имевших место со стороны турецких властей актов «насилия по отношению» «к жителям русского происхождения» [17, с. 129]. «С глубоким сожалением, - писал Г.В. Чичерин послу Турции в РСФСР А. Фуаду, - должен сообщить Вам, что, согласно последним сведениям, поступившим вчера и сегодня от наших военных властей на Кавказе, положение русских крестьян в Карской области изо в день становится все более невыносимым. Произвольные аресты, факты самоуправства, всякого рода насилие, кражи и грабежи с вытекающей из всего этого полной нищетой – таково обращение, которому ежедневно подвергаются русские в этих местностях. Согласно телеграмме от 17 мая, все русские мужчины и взрослое население в возрасте от 19 до 45 лет, проживающие этих провинциях, недавно были объявлены мобилизованными и будут направлены на принудительные работы» [18, с. 131].
Упомянутые жители Карской области не являлись гражданами РСФСР. Они были всего лишь представителями титульной и государствообразующей для России русской нации, т. е. зарубежными соотечественниками.
Традиционная российская политика в сфере миграции не ограничивалась лишь применением права почвы и права крови. Еще в царской России власти прибегали к привлечению из-за границы переселенцев для освоения обширных пространств Российского государства. От них требовались верность России и стремление своим трудом приносить пользу ее хозяйству.
То же было характерно и для большевиков. Только в добавление к временам царской России они старались привить поселенцам коммунистический дух. Все это в полной мере проявилось в многонациональном Черноморском округе. Он в основном был заселен представителями различных этнических групп еще в царское время. Задача новой власти стояла в том, чтобы, во-первых, закрепить указные этнические группы в Черноморье, во-вторых, воспитать их в духе приверженности новому советскому режиму.
В Новороссийске и прилегающем к нему районе (включал территорию Черноморского побережья до Михайловского перевала, Крымский район, Анапу и прилегающую к ней территорию) руководством Черноморского округа выделялись следующие наиболее значимые этносы: русские, греки, немцы, украинцы, а также армяне. Во время Гражданской войны 191 8–1920 гг. трудящиеся слои населения здесь заняли четкую пробольшевистскую позицию. Практически сразу после занятия Новороссийска белыми возникло партизанское движение, получившее наименование красно-зеленого. Достаточно сказать, что летом 1919 г. красно-зеленые партизаны предприняли попытку штурмом овладеть Новороссийском. Попытка закончилась неудачей, но заставила российских белых и помогавшее им командование иностранных войск стянуть для обороны города существенные подкрепления, необходимые на Южном фронте для борьбы против Красной армии Советской России.
Ориентация национальных меньшинств здесь в формационном и цивилизационном отношении не вызывала каких-либо серьезных беспокойств у партийного и советского руководства. Однако имелись моменты, препятствующие полной интеграции национальных меньшинств Новороссийска и прилегающих к нему территорий в общегосударственную жизнь страны. Относительно греков это были низкий уровень грамотности, наличие среди них большого числа иностранцев и подчас возникающие настроения в пользу переселения в Грецию. Даже греки из числа актива (значительная часть которого являлась членами ВКП(б)) были «слабоподготовленные, как по линии партобразования, так и в знании родного языка», не говоря уже о грамотности в сфере русского языка [19, л. 2].
В 1927 г. «всего греков на Черноморье» насчитывалось «28 136 жителей», что составляло «11 % общего количества населения» Черноморского округа. Из них 20 тысяч жили на селе и 8 тысяч в городах [20, л. 13]. Большинство греков, проживающих в городах, концентрировалось в Новороссийске.
Классовая структура греческого населения никаких опасений у властей не вызывала. Хотя пролетариев среди греков было мало, однако сельская часть греческого населения принадлежала к крестьянам-середнякам, ведущим хозяйство «трудовым путем» без привлечения наемных работников [21, л. 13]. Такие слои населения, согласно большевистским доктринам, считались опорой советской власти.
Во время Первой мировой войны немало греков переселилось на Черноморское побережье Кавказа из Турции, спасаясь от османской власти [22, л. 13]. Хотя в документах ЦДНИКК не удалось найти упоминания о переселения греков на территории побережья современного Краснодарского края после Первой мировой войны, такие миграции имели место. Во время Кемалистской революции и войны 1919–1923 гг., которую вела Турция против Греции, против возглавляемой партией Дашнакцютун Армении, а по сути – и против Италии, Великобритании и фактически Франции, грекотурецкие отношения резко обострились. На территории азиатской Турции жило тогда приблизительно 2 млн греков. Многие из них явно и тайно помогали Греции в войне против кемалистов, допуская партизанские действия против турецких войск и поднимая восстания. В ответ следовали репрессии. Например, после подавления вспыхнувшего в июле 1921 г. восстания греков в районе Самсуна «весь прилегающий к городу… когда-то богатейший, район» стал представлять собой «почти полную пустыню» [23, с. 205]. Район Самсуна наиболее близко расположен к Новороссийску (в настоящее время является побратимом города). Из этого района на Черноморское побережье современного Краснодарского края и устремился основной поток греческих беженцев.
В период Кемалистской революции Турция и Советская Россия выступали союзниками. Россия тогда была единственной страной в мире, оказывавшей помощь кемалистам в их борьбе.
Однако это не мешало властям Турции притеснять русских на территории Карской области, а большевикам – укрывать у себя греков из Турции.
По мнению руководства ВКП(б) в Черноморском округе, «религиозность, консерватизм и национализм» являются отличительными чертами греческого населения на селе [24, л. 13]. Эти свойства усилились с переселением греков из Турции в период Первой мировой войны и особенно во время Кемалистской революции.
При этом нужно иметь в виду следующее. Консерватизм греков касался прежде всего вопросов семьи и быта, но никак не политики. Здесь они в целом поддерживали советское руководство. Этому не препятствовала и повышенная степень религиозности греческого населения. В этом они принципиально ничем не отличаются от остальных национальных групп Северо-Западного Кавказа, всегда характеризовавшихся религиозностью в советское время.
Зато национализм не мог не вызвать серьезных опасений большевистского руководства как с формационной точки зрения, так и с цивилизационной. Националисты всегда рассматривались большевиками как злейшие враги советской власти, а уголовное законодательство бывшего Советского Союза предусматривало суровые санкции за малейшие проявления национализма. С цивилизационной точки зрения восточные славяне исторически восприняли византийский подход к межнациональным отношениям, в то время как греки после падения Византийской империи в значительной степени его утратили [25].
Преодолеть все это предполагалось прежде всего ликвидацией безграмотности среди греков. Причем ставилась задача обучать греческое население как греческому языку, так и русскому, не допуская при этом никакой ассимиляции греков [26, л. 18]. Тем более, как отмечалось в партийных документах, нередко греки знают русскую письменность, но не знают греческой.
Среди греков наблюдались «почти полное отсутствие литературы и периодических изданий на родном языке, а также наличие разнообразных наречий и даже разных языков (греческий и турецкий)» [27, л. 3]. Упоминание о турецком языке неслучайно. Долгие годы османского правления привели к тому, что многие греки в азиатской Турции (а именно оттуда устремился основной поток греческих беженцев) забыли свой язык и восприняли различные тюркские наречия как родные, но при этом сохранили национальное самосознание.
Ликвидации неграмотности мешала слабая осведомленность живших в Черноморском округе греков о проводимой на их родине реформе греческого языка. Послереформенный вариант, облегченный для усвоения, был предложен либералами, то время как греческие консерваторы выступали против изменений. Рабочее движение в самой Греции стояло «за упрощение языка» [28, л. 1–2]. В результате руководством Черноморского округа было принято решение сделать основной упор именно на ликвидацию неграмотности среди греков, обучение литературным греческому и русскому языкам в их устной и письменной формах с обязательным учетом реализуемой в то время реформы греческого языка.
В XIX в., переселяясь на Черноморское побережье, многие греки не вступали в российское подданство, оставаясь иностранными гражданами либо апатридами. Само по себе это не могло быть основанием негативного отношения греков к единоверной им России.
Однако наличие большого числа греков без советского гражданства осложнило их земельные отношения с греками, имевшими гражданство СССР. Права частной собственности на землю в СССР не было, но при допуске к ней приоритет отдавался советским гражданам. Это грозило расколом греческой общины на два враждующих лагеря. Партийные организации Черноморского округа предложили решить данный вопрос путем допуска к пользованию землей греков, не являющихся советскими гражданами [29, л. 11–11 об.].
Так и поступили власти в дальнейшем. Ведь собственность на землю в СССР была государственная и физическое лицо могло владеть или пользоваться землей постольку, поскольку оно надлежащим образом ее обрабатывало. В противном случае государственная власть землю изымала. Исключений здесь не было ни для советских граждан, ни для иностранцев, ни для апатридов. Допуск к земле греков-иностранцев, в том числе подданных Греции, не только снял противоречия в среде самих греков, но разрешил недоразумения между ранее безземельными греками-иностранцами и иными этническими группами.
Все же наличие в Черноморском округе большого числа греков, не имеющих советского гражданства, стало основанием для серьезного беспокойства местных властей. Опасения эти носили формационный характер. Главным образом вызывали настороженность греки из числа граждан Греции. Ведь в ней вплоть до последней трети XX в. существовал королевский режим, который жестко преследовал всякие проявления марксизма в частности и инакомыслия вообще. Греки из числа подданных короля могли в любой момент уехать на родину, ослабляя тем самым экономику Черноморья. Мало того, они могли увлечь за собой и остальных представителей греческой общины, в первую очень из числа неграждан СССР. Впрочем, так и произошло.
Партийные органы указывали, что «в округе имеется много иностранно-подданных греков, среди которых замечается эмиграционное настроение. Необходимо принять меры к изжитию выезда в Грецию, ибо это является политически вредным уклоном» [30, л. 14].
Данному вопросу было посвящено специальное совещание местных партийных функционеров. Обращая внимание на «наличие большого процента иностранных подданных среди греков и успешность агитации среди них за возвращение в Грецию» [31, л. 2], руководство указало, что такими настроениями охвачено греческое крестьянство, а не греческий рабочий класс. «Отмечая случаи выездов из пределов СССР в Грецию и тенденций к выезду у некоторых групп крестьянства, совещание» предложило «изучить причины этого явления и усилить работу среди крестьянства», а также «провести кампанию среди трудящихся-греков, являющихся иностранно-подданными, о переходе их в советское подданство» [32, л. 4].
Со значительным запозданием местные коммунисты выяснили, что основной причиной, побуждающей греков к выезду в Грецию, является деятельность правительства этого государства. «Греция сейчас представляет страну, которая может делать нам пакости», – отмечал по данному поводу партийный функционер Подгорный ∗ [33, л. 1]. Указывалось, что греческое правительство обещает выплатить компенсацию всем грекам, потерявшим имущество при оставлении Турции, если они переселятся в Грецию. Поэтому «в погоне за вознаграждением при бегстве из Турции греки не выходят из иностранного подданства» [34, л. 8]. Правительство Греции в то время планировало расселить греков из СССР на землях Новой Греции, отошедшей Греческому королевству от Османской империи по результатам Балканских войн 1912–1913 гг. Изгнание с этих земель турецкого населения посредством этнических чисток в период Кемалистской революции привело к их опустению, что вызвало также потребность в перемещении в указанные районы греков из СССР.
Решив земельный вопрос и в значительной степени ликвидировав неграмотность среди греческого населения, большевики, однако, не смогли преодолеть проблему с гражданством греков Черноморского округа. Многие из них еще долго оставались иностранными гражданами и апатридами. Репрессии советского режима в сталинскую эпоху в последующие периоды (выходящие за рамки данного исследования) усилили недоверие греков к советской власти и побудили их воздержаться от вступления в гражданство СССР. Окончательно этот вопрос был решен только после Второй мировой войны.
Доля немецкого населения среди всех жителей Черноморского округа в 1926 г. составляла всего 1,1 % [35]. Причем указанные цифры практически не получили отражения в документах советских и партийных органов округа. Немцы были отнесены к прочим малочисленным этническим группам с точки зрения их количества.
Однако немцы были, пожалуй, наиболее организованной и квалифицированной этнической группой Черноморского округа, не уступая в этом отношении славянам и подчас даже превосходя их. Они были заняты как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Причем по оснащенности техникой и урожайности немецкие предприятия занимали передовые позиции в округе.
Концентрировались немцы в основном на Таманском полуострове [36, л. 1]. Было немало их и в Новороссийске.
Среди немцев наблюдалась четкие социально-классовая дифференциация и политические предпочтения. В то время как кулачество было настроено явно прохладно к существовавшему тогда в СССР политическому строю и социально-экономической системе, середняки и особенно беднота, а также занятые в промышленности демонстрировали склонность к марксизму. В поселениях немцев уже в 20-е гг. XX в. возникли сельскохозяйственные кооперативы, причем обеспеченные техникой, в том числе бывшими тогда экзотической редкостью в СССР тракторами [37, л. 7]. Данная тенденция гораздо слабее проявлялась у других этнических групп, включая славянское население.
Руководство Черноморского округа стремилось сохранить имеющийся высокий уровень развития сельского хозяйства у немцев, а также степень их грамотности и квалификации [38, л. 2–3]. При этом немецкому населению предоставлялась возможность обучения не только на русском языке, но на родном, с закреплением его в качестве официального в районах компактного проживания [39, л. 20–21].
Основную проблему в работе среди немецкого населения партийное и советское руководство Черноморского округа резонно усматривало в действиях немецкого кулачества. Его цели не только носили антикоммунистический характер, но и были направлены против Российского государства. Например, в 1918 г., в самом начале Гражданской войны в России 1918–1920 гг., немецкое кулачество поддержало высадку войск кайзеровской Германии из Керчи на Таманский полуостров. Германские войска представлялись немецкому кулачеству как гарантия избавления их не только
∗ Здесь и далее инициалы отсутствуют, если они не указаны в архивных материалах.
от советской власти, но и от Российского государства. Ведь Германия в 1918 г. планировала утвердиться в Крыму навечно, удалив оттуда Россию раз и навсегда. Немецкое кулачество надеялось, что, не ограничиваясь Крымом, Германская империя овладеет и Кубанью, включая Черноморье. Средние слои немецкого населения и беднота отдали предпочтение российским красным.
После окончания Гражданской войны, когда Германия была обременена тяжелыми условиями Версальского договора 1919 г., немецкие кулаки предприняли попытки организовать переселение немцев из Таманского полуострова в пределы Веймарской республики [40, л. 20–21]. В этом руководство Черноморского округа обоснованно увидело попытку ослабить кадровый потенциал Советского Союза в целом и Черноморья в частности. Поэтому организации ВКП(б) Черноморского округа поставили задачу оказывать этому явлению всяческое противодействие. Это им удалось.
Следующей значимой этнической группой в Черноморском округе были украинцы. Их доля здесь составляла 37,5 % [41]. Необходимо отметить, что статистика Черноморского округа зачастую включала украинцев и казаков в число русских. Однако при принятии решений по важным вопросам они выделялись в отдельные группы.
В целом политика в отношении украинцев и казаков проводилась в рамках касающейся в целом государствообразующей русской нации. Украинцы выделялись в связи с политикой украинизации в восточных районах Украины и на Кубани. Кубань в конце XVIII в. заселялась черноморскими (бывшими запорожскими) казаками, украиноязычными по языковой принадлежности. Однако при этом они обладали сильным региональным самосознанием и характеризовались приверженностью России, а не идее отделения от не Украины. Сформировавшийся на Кубани местный говор в основе имел лексику и грамматику украинского языка. Однако в среде казачества не наблюдалось желания заимствовать украинский алфавит. Эти настроения проникли в слои неказачьего украиноязычного населения Кубани [42], которое с настороженностью относилось к исходящим из Украинской ССР попыткам окончательно отделить украинскую нацию от русской.
Следует также учитывать, что Кубань исторически относилась к регионам с повышенной религиозностью. Русская православная церковь традиционно выделяла российскую сложносоставную нацию, включающую три простые: белорусскую, украинскую и русскую. Последняя вплоть до 1918 г. называлась великоросской. Поэтому, сохраняя кубанский говор, украиноязычные кубанцы и значительная часть казачества, именуемая черноморцами, в то же время высказывались за наличие на Кубани русского языка как единственного официального и за пользование русским алфавитом при письменном изложении суждений на кубанском диалекте украинского языка. Видимо, в этом следует искать основную причину неудачи политики украинизации на Кубани, в том числе в Черноморском округе. Полагая, что знание русского языка и русской письменности позволит транслировать на бумажном носителе кубанский говор, жители округа не посещали украинские школы. Местные органы власти и партийные структуры расценивали такую позицию как «косность украинского населения в отношении родного языка» [43, л. 2].
Казаков в Черноморье исторически проживало немного. Они концентрировались в основном близ станицы Крымской (ныне города Крымска Краснодарского края) и около Анапы. Каких-либо серьезных проявлений недовольства со стороны казачества в отношении советской власти и тем более выступлений против существовавшего тогда режима на территории Черноморского округа в 20-е гг. XX в. зафиксировано не было.
Однако партийные и государственные структуры из соображений безопасности настороженно относились к казачьему населению и старались ограничить его возможности. В первую очередь это касалось землевладения и землепользования. Например, земли станицы Раевской исторически принадлежали местному казачьему обществу, в то время как переселившиеся туда греки и особенно армяне были без земли. Поскольку армянская община настаивала на наделении ее землей за счет казачьего общества, возникли «случаи, когда некоторые казаки грозили армянам резней» [44, л. 4].
«Всей этой кампанией, – указывал инструктор ЧОК РКП(б) среди национальных меньшинств Аваков, – руководит человек 7–8 из реакционного казачества; ячейка и сельсовет очень слабо реагирует на это отрицательное явление» [45, л. 4]. «Греки и армяне настроены вполне лояльно к Советской власти, поддерживают все новые начинания, аккуратно и вовремя выполняют свои повинности. Кроме того, они являются хорошими хозяевами и занимаются растениеводством высоких культур», – продолжал Аваков. Исходя из этого, он предлагал наделить их землей вопреки позиции казачества [46, л. 4]. Большинство представителей указанных национальных групп, как обозначено в документе, представляют собой мигрантов, переселившихся в Россию в годы Первой мировой и Гражданской войн. Однако для партийного и советского руководства в данном случае основную роль играла степень лояльности той или иной группы советскому режиму, а не Российскому государству, а также не какое-либо другое обстоятельство.
Тем не менее, желая ослабить экономические позиции казачества, организации ВКП(б) Черноморского округа понимали полезность казаков для России и поэтому ориентировались на интеграцию этого слоя в советский режим. О депортации казаков не шло никакой речи. Депортация и репрессии против этой прослойки населения имели место позже, в период коллективизации и голодомора (1928–1933), охвативших не столько Черноморье, сколько равнинные районы Кубани. В результате компенсационных миграций, последовавших за потерями населения (в основном казачьего, изъяснявшегося кубанским говором украинского языка) в период коллективизации, в значительной степени сменился этнический состав населения Кубани с украинского на русский, когда русский элемент стал преобладать (по Всесоюзной переписи 1926 г. украинцы составляли 50,25 % населения Кубани, в то время как русские – 41,62 % [47, с. 118]).
Говоря о казаках, партийные и советские структуры Черноморского округа всячески избегали вопроса о том, являются ли казаки сословием (хотя и упраздненным) либо речь в данном случае идет об отдельном этносе в составе триединой российской (русской) нации.
Армяне занимали второе место по количеству населения Черноморского округа (29,0 %), уступая только русским (55,0) и превосходя греков (9,0 %) [48, л. 1]. При этом в наиболее развитых в экономическом отношении районах (Анапском, Новороссийском, Геленджикском) их доля была совсем не значительна. Например, в Анапском районе они составляли 5,0 % населения (русские – 72,0 %, греки – 9,0 %), Новороссийском – лишь 0,8 % (русские – 76,0 %, греки – 9,0 %), Геленджикском – 0,8 % (русские – 68,0 %, греки – 27,1 %). В Туапсинском районе армяне достигали 18,0 % (русские – 55,4 %, греки – 5,0 %). Зато в самом отсталом в то время Сочинском районе (Сочи стал всесоюзной здравницей-курортом только перед Второй мировой войной) армяне представляли собой относительное большинство (45,0 %), в то время как русские – 36,0, греки – 4,0 % [49, л. 1].
Основная часть армян проживали в сельской местности, и только малое их число являлись жителями городов – Новороссийска и Туапсе. Армянское сельское население отличалось доми-цилиарным (партикулярным) мышлением, когда интересы их родственного клана, села или близлежащей к нему округи ставились выше интересов Черноморского округа и тем более – государства, в состав которого этот округ входил.
Данные настроения нашли выражение во время сочинского территориального конфликта 1918–1920 гг. между Грузинской Демократической Республикой и Россией. Грузия претендовала на включение в состав района Сочи вплоть до реки Маокпсе (близ Туапсе). 3 июля 1918 г. грузинские войска заняли Адлер, 5 июля – Сочи, 27 июля – Туапсе, а затем продвинулись до станции Хадыженская и селения Архипо-Осиповка, заняв их. В сентябре 1918 г. отряды белых кубанских казаков выбили грузинские войска из Туапсе и Лазаревской. Не желая развития конфликта внутри антибольшевистского лагеря, представители Великобритании (от имени Антанты с ноября 1918 г. вплоть до лета 1920 г. курировали дела на Кавказе, официально выступали за восстановление России в рамках бывшей Российской империи [50, с. 88–89]), требовали от главнокомандующего вооруженными силами Юга России А.И. Деникина прекратить наступление и нейтрализовать район Сочи. Нейтрализация включала в себя ввод на территорию Сочи и прилегающего к нему района от Туапсе до реки Бзыбь (т. е. до границы Черноморской губернии с Сухумским округом Кутаисской губернии) войск Антанты. А.И. Деникин понял ситуацию, и по его приказу белые оккупировали всю территорию Черноморской губернии до реки Бзыбь. По требованию Антанты российским белым пришлось отойти к реке Псоу и согласиться создать в Гагринском районе нейтральную зону между войсками Грузинской Демократической Республики и Юга России.
Население района Сочи сразу неприязненно отнеслось сначала к грузинским белым войскам, а затем и к российским, для противодействия им начав создавать отряды зеленых. Зелеными в период Гражданской войны в России и в первые годы после ее окончания называли партизан. Бело-зеленые – это белые партизаны и белые повстанцы, действовавшие против красных. Красно-зеленые – красные партизаны. Партизаны Сочинского района были просто зелеными. Воюя сначала против грузинской армии, а затем против российских белых, они при этом не были красными. Их цель состояла в защите самостоятельности своих селений и сельских округов с тем, чтобы в их партикулярную действительность какая-либо власть или вовсе не вмешивалась, или (в крайнем случае) вмешивалась минимально.
Для сравнения: зеленые остальной части Черноморья были красно-зелеными, руководились и направлялись местными большевистскими организациями, вели активные боевые действия против войск Юга России и Антанты, оккупировавших Новороссийск и его окрестности. В целом красно-зеленые Черноморья контролировали значительную территорию и отвлекали на себя крупные силы белых и поддерживавших их контингентов войск Антанты.
В Сочинском районе бои носили сугубо местный характер. Выбив белых из прилегающей к своему селу округи, повстанцы далее идти не хотели, проявляли аполитичность к происходящим в России событиям. Этим воспользовалась Грузинская Демократическая Республика, в целях воздействия на А.И. Деникина оказывая зеленым района ограниченную помощь.
Не без содействия Грузии (где правила тогда партия меньшевиков) в Сочинском районе из эсеров и меньшевиков был создан Комитет освобождения Черноморской губернии (далее – КОЧ). Данная организация стремилась, во-первых, объединить разрозненные отряды зеленых района в нечто целое, во-вторых, придать движению зеленых в Сочи прогрузинскую ориентацию (в новых условиях Грузинская Демократическая Республика пыталась создать в Черноморье прогру-зинское государственное образование).
Зеленые под руководством КОЧ 30 января 1920 г. выбили деникинцев из Адлера и Дагомыса, а 2 февраля овладели Сочи. Туда же из Гагр прибыли представители КОЧ, вступившие с переговоры с британским военным командованием. Последнее советовало партизанам приостановить дальнейшее наступление и начать переговоры с А.И. Деникиным. Хотя КОЧ не согласился на переговоры с белыми, все же приказал зеленым Сочинского района воздержаться от наступления на Туапсе совместно с красно-зелеными. Однако повстанцы не подчинились и приняли участие в овладении Туапсе 24 февраля 1920 г. [51, с. 76–77]. Так начался процесс постепенной эволюции партизанского зеленого движения в Сочинском районе из антиденикинского в краснозеленое, в котором армянское население приняло активное участие.
После овладения Черноморьем Красной армией часть армянского населения по антикоммунистическим мотивам «ушла» «в Грузию», в расположенную в Гагринском районе нейтральную зону, но основная масса армян осталась на прежнем месте жительства. Это армянское «население очень сочувственно относится к Советской власти», – отмечал в отчете партийный работник Т. Егоров-Карпов [52, л. 1].
Большевики старались закрепить свои первые успехи, интегрировать армян Черноморья в советскую политическую систему. При этом они обращали внимание на три основных момента: коммуникации, земельный вопрос, ликвидацию неграмотности.
Система путей сообщения в Черноморском округе, и без того слабая, была в значительной степени разрушена Гражданской войной. Особенно это касалось Сочинского района, который «очень разбросан на далекое расстояние и за неимением средств передвижения» пассажирам при передвижении из одного населенного пункта в другой «приходится сидеть и ожидать по четыре-пять дней подводы» [53, л. 1 об.]. Ситуация с путями сообщения в данном районе наладилась только к середине XX в., когда Сочи стал всесоюзным курортом: туда была проложена железная дорога, а качество шоссейного полотна было существенно повышено. Тем не менее в 20-х гг. XX в. при тогдашнем состоянии дорог в этом районе было весьма затруднительно преодолеть местнические настроения среди армянского населения и интегрировать его в государственную и политическую систему Советского Союза.
Как уже отмечалось, Черноморская губерния при создании в царское время предназначалась в значительной степени под место отдыха состоятельных людей Российской империи, которые, как предполагалось правительством, должны были на собственные средства развивать ее экономику и инфраструктуру. Данные надежды не оправдались. Однако большие земельные массивы в этой части России по доступным ценам были проданы богатым людям, подчас представителям высших слоев населения. Многие из них за всю жизнь так и не посетили территории, которыми владели.
Указанные массивы и послужили земельным фондом, из которого в советское время наделялись участками мало- и безземельные крестьяне. В первую очередь это относилось к Сочинскому и Туапсинскому районам, в значительной степени – к Геленджикскому. Новороссийский район был промышленным и для сельского хозяйства малопригодным. Поэтому там не получило широкого развития выделение земель заинтересованным в них слоям населения. В районе Анапы находилось много казачьих земель. За счет изъятия их части у казаков в основном и осуществлялось наделение нуждающихся.
К нуждающимся в первую очередь относились армяне. Они были включены в состав тех групп населения, которые приоритетно наделялись землей не только за счет крупных частновладельческих массивов, но и из государственного земельного фонда. Последнее обстоятельство подчас вызывало негативное отношение других этнических групп, в своих националистических проявлениях указывавших, что «армяне хитрые и жадные» и «хотят усвоить государственные земли» в исключительно корыстных целях во вред иным этносам и государству в целом [54, л. 35–36 об.]. Особенно резко против наделения армян землей выступили казаки, когда речь шла о решении земельного вопроса за счет изъятия их земли. Относя себя к трудящимся социальным группам, казаки недоумевали, почему у них изымается земля в пользу армянских переселенцев, прибывших в Черноморский округ совсем недавно, во время Первой мировой войны, из Османской империи [55, л. 3–4]. Тем более что официально, а зачастую и фактически группа армян относилась к иностранцам-беженцам, не интегрированным в советскую действительность и не проявлявшим явной склонности к такой интеграции в рассматриваемый период исторического развития Черноморья. Указывая на таких армян как на чуждый для России элемент, непрошеных пришельцев, устанавливающих при помощи новой власти свои порядки на казачьих землях, казачество Черноморского округа (включая казаков – членов ВКП(б)) ратовало за их депортацию, не останавливаясь при этом даже перед этнической чисткой – «резней» армян [56, л. 4].
Если антиармянские настроения иных этнических групп решались большевиками преимущественно методом пропаганды, увещевания их отказаться от крайности суждений, настроиться на установление доверительных отношений с армянской общиной, то к казачеству применялись быстрые и жесткие меры, направленные на подавление в зародыше всякой возможности силовых действий с их стороны. Переубедить казаков занять более лояльную позицию в земельном вопросе (как и в других вопросах) местное партийное и государственное руководство даже не пыталось. Оно понимало, что казаки, проникнутые российским патриотизмом, при этом исторически жили по своим законам и обычаям и еще в царское время подчинялись общероссийским законам постольку, поскольку они соответствовали казачьему укладу. Тем более это относилось к советской действительности.
В целом большевикам удалось в 20-е гг. XX в. разрешить земельный вопрос армян.
Самой тяжелой считалась проблема ликвидация неграмотности среди армян. Из крупных этнических групп Черноморского округа уровень их грамотности был самым низким. Неграмотность женской части этой общины была почти поголовной. Очень мало среди армян имелось специалистов и представителей рабочего класса. Относительно последних в партийных документах отмечалось, что даже в Новороссийске «93 % рабочих армян цемзаводов и на постройках чернорабочие. В фабзаучах же всего один армянин» [57, л. 7] «Если не будут приняты срочные меры и решительные <действия?> к привлечению детей рабочих в фабзавучи и комплектование заводов молодым поколением рабочих, дети теперешних рабочих» из числа армян «будут деклассированны», как с тревогой указывалось в партийных документах [58, л. 7].
Для устранения создавшегося положения предлагалось в первую очередь обучать армян грамоте. Причем это касалось как взрослых, так и детей. Обучение предполагалось вести и на армянском языке, и на русском. Особое внимание уделялось преподаванию русского как важнейшему средству интеграции армян в жизнь Советского Союза [59, л. 2–2 об.]. Реализация данных намерений, однако, натолкнулась на ряд объективных и субъективных препятствий. К ключевым из них относились неразвитость путей сообщения, разбросанность армянского населения (особенно сельского), сильные диалектные различия среди самих армян, нехватка учебных пособий и преподавателей. Решив земельный вопрос, значительно улучшив состояние путей сообщения, большевики так и не смогли в течение 20-х гг. XX в. ликвидировать неграмотность армянского населения Черноморского округа. Этот процесс растянулся вплоть до Второй мировой войны и после нее.
Стараясь не допустить оттока из Черноморского округа имевшегося там населения, партийное и советское руководство одновременно предприняло попытки переселить сюда людей из других районов Советского Союза. Они были главным образом славянами и подлежали расселению преимущественно в сельских малоосвоенных и отдаленных районах Черноморья, в первую очередь близ Туапсе и Сочи. Занимались этим не местные власти округа, а руководство Северо-Кавказского края. Предполагалось, что поселенцы сразу же образуют сельскохозяйственные кооперативы. Данная деятельность успехом не увенчалась. Основная причина этого заключалась в недостаточном финансировании переселения властями [60, с. 10–11].
Подобное обстоятельство заставило партийные и советские органы в рамках миграционной политики еще больше сконцентрироваться на недопущении оттока уже имеющегося в Черноморском округе населения за пределы Черноморья. Это относилось в том числе к малочисленным этническим группам, даже несмотря на то что они в значительной степени или почти сплошь состояли из иностранцев. К первой категории можно отнести чехов, словаков и поляков, ко второй – венгров.
В целом к чехам, полякам и словакам целесообразно применить ту же характеристику, что и к немцам. Однако уровень образованности этих групп населения был немного ниже, чем у немцев, среди них (особенно словаков) была значительнее прослойка сельских жителей. Хозяйства указанных этнических групп по сравнению с таковыми немцев были слабее механизированы и кооперированы, хотя их представители проявляли склонность к кооперации не меньше, чем немцы.
Серьезным обстоятельством, облегчавшим деятельность партийных и советских структур, связанную с указанными этническими группами населения, выступала принадлежность большинства из них к славянам. Наряду с довольно высоким (по косвенным, но весьма убедительным показателям) уровнем грамотности [61, л. 42–43] это позволило им усвоить русский язык. Проводя политику среди чехов, поляков и словаков, местные структуры ставили целью в первую очередь не допустить их ассимиляции среди русского населения, сохранить их родной язык и самобытность. Например, в 1927 г. в Новороссийске предполагалось открыть однокомплектную польскую среднюю школу [62, л. 2].
Ниже был образовательный уровень словаков и эстонцев в сельской местности. При этом их отношение к Российскому государству можно считать положительным, а к существующему в СССР политическому режиму – удовлетворительным [63, л. 5]. Поэтому здесь главное внимание уделялось не столько повышению общего уровня образования, сколько распространению среди них ценностей коммунистической идеологии [64, л. 1].
Среди малочисленных этносов Черноморья в рассматриваемый период следует упомянуть черкесов-шапсугов (далее – шапсуги). Для них были характерны полное отсутствие эмиграционных настроений, партикуляризм, желание максимально отгородиться от всего, что происходило за пределами их селений. Советский режим предоставил им административную автономию. Партийные и советские органы Черноморского округа также предприняли попытки ликвидировать неграмотность шапсугов и добились в этом значительного прогресса.
Отдельную группу составляли венгры. Почти все они были иностранцами, политическими эмигрантами, переселившимися после падения Венгерской коммуны, созданной 23 марта 1919 г. во время европейской революционной ситуации 1919 г. Советская Венгрия, просуществовав до 1 августа 1919 г., пала под воздействием объявленной ей Верховным советом Антанты блокады и в результате наступления войск Чехословакии, французского контингента и особенно румынской армии.
Относительно этой группы возникли противоречия между компартией Венгрии с одной стороны и большевистскими организациями Черноморья с другой. Венгерская компартия старалась побудить соотечественников, бывших бойцов Венгерской Красной армии, включиться в подпольную революционную борьбу против режима адмирала Миклоша Хорти, создавшего одну из наиболее суровых правых диктатур в Европе в межвоенный (1919–1939) период [65, л. 3]. Однако местные коммунистические организации Черноморья, официально не возражая венгерским коллегам, не предпринимали никаких действий в удовлетворение их желания, побуждая скрытым образом венгерских политэмигрантов остаться на постоянное жительство в Черноморском округе.
Необходимо отметить один аспект, связанный с концепцией мировой революции в троцкистском ее понимании, когда российская Красная армия должна была на своих штыках принести коммунистический строй во все уголки планеты, не принимая во внимание, желают ли их жители коммунизма или нет. Этой троцкистской точке зрения противостояло мнение В.И. Ленина, который стремился к установлению коммунизма трудящимися стран по их желанию. Основатель Советского Союза высказывался против экспорта революции. Еще далее шел его преемник И.В. Сталин, который хотел построения социализма первоначально в одной стране – СССР. Лишь Л.Д. Троцкий настаивал на экспорте революции. Это общеизвестные факты, не нуждающиеся в доказательствах.
В активности венгерских коммунистов в вопросе привлечения находившихся в Черноморском округе ветеранов Венгерской Красной армии в подпольную борьбу большевики Черноморья усмотрели явные признаки концепции экспорта революции. Они старались этому противодействовать, резонно полагая, что знания и опыт венгерских коммунистов будут более полезны в Советском Союзе.
Обозначенные настроения коммунистов Черноморья ярко проявились в середине 20-х гг. XX в. во время дискуссии, развернувшейся в ВКП(б) между сторонниками политических линий Л.Д. Троцкого и И.В. Сталина. В ходе дискуссии за позицию последнего проголосовало 738 тысяч членов ВКП(б), а за продвигаемую Л.Д. Троцким – чуть более 4 тысяч, при этом воздержалось около 3 тысяч человек [66]. В партийных организациях Черноморского округа по данному вопросу были проведены собрания, через которые «прошло 2 653 членов и кандидатов» в члены ВКП(б) «и 2 000 членов ВЛКСМ» [67, л. 2]. На этих собраниях не было подано ни одного голоса за возглавляемую Л.Д. Троцким оппозицию. Почти все участники (часто единогласно) высказывались за ЦК ВКП(б) под руководством И.В. Сталина. Воздержавшихся насчитывались единицы. Например, на собрании «резолюция» в поддержку ЦК ВКП(б) «была принята при 3 воздержавшихся (присутствовало 490 чел.)» [68, л. 5].
Изложенное показывает, что члены ВКП(б) из числа лиц еврейской национальности не поддержали Л.Д. Троцкого. Тем не менее в партийных организациях Черноморского округа преобладало мнение, что коммунисты-евреи являются скрытыми троцкистами. Хотя указанная точка зрения не подкреплялась никакими аргументами и доказательствами, ее сторонники демонстрировали большую активность, подчас допуская антисемитские действия насильственного и явно хулиганского характера. Еврейская секция при АПО Черноморского окружного комитета ВКП(б) постановила данный факт расследовать и «виновных привлечь к ответственности», не ограничиваясь этим, провести работу «по вопросам выявления антисемитизма». Одновременно указывалось «в печати вопрос не освещать» [69, л. 19]. В архивных материалах не удалось обнаружить реакцию руководства Черноморского округа и его организаций ВКП(б) на данное постановление еврейской секции. По всей вероятности, оно было оставлено без движения.
Аналогичная ситуация сложилась с вопросом о караимах и крымчаках. Еврейская секция ВКП(б) Черноморского округа исходила из того, что они представляют собой часть еврейской нации. Впрочем, такое мнение господствует в еврейской среде. Этим же обусловлена и официальная доктрина государства Израиль. Данный взгляд находится в полном соответствии со стандартным подходом к межнациональным отношениям (превалирующим практически повсеместно в мире), но противоречит византийскому подходу (принятому у большинства восточных славян и традиционно являющемуся официальным в России). Понимая, что византийский подход гораздо ближе к марксистской доктрине, чем стандартный, еврейская секция Черноморского округа ВКП(б) решила не обращаться в вышестоящие инстанции за содействием (как в случае с антисемитизмом), а разрешить вопрос с караимами и особенно с крымчаками самостоятельно [70, л. 19]. Последние, как отмечалось в постановлении еврейской секции ВКП(б) Черноморского округа, «имеют свое наречие», поэтому их «необходимо выделить» в «подсекцию, но не отделять их от евреев» [71, л. 19]. Видимо, под наречием крымчаков понимался крымско-татарский язык, который является родным для этой этнической группы, исповедующей иудаизм, и который относится к тюркской группе языков, далеко отстоящей от иврита и идиша.
Таким образом, причисляя крымчаков к числу лиц еврейской национальности, еврейские коммунисты в качестве критерия брали не язык (важнейший критерий этнической и национальной принадлежности), а религию. Характерно, что это делалось в атеистическом государстве, именуемом Советским Союзом, лицами, состоящими в атеистической политической организации -Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).
Говоря о еврейской общине, следует отметить высокий уровень грамотности ее представителей, их сильную самоорганизацию, умение поставить цель и последовательность в ее достижении. Здесь же необходимо выделить ориентацию на разрешение возникающих вопросов самостоятельно в своей среде, не вовлекая в этот процесс другие группы, а тем более руководство Черноморского округа. Исключение составляли лишь случаи антисемитизма, когда еврейские организации обращались за защитой в высшие инстанции. Обращает на себя внимание также склонность еврейской общины, включая еврейскую секцию ВКП(б), руководствоваться стандартным подходом в межнациональных отношениях.
-
7 мая 1934 г. на Дальнем Востоке России советским руководством была создана Еврейская автономная область на началах административной автономии. Однако подготовительная работа по ее формированию началась еще в 20-е гг. XX в. Таким образом руководство Советского Союза стремилось охватить всех евреев в СССР, побудить их переселяться в создаваемую область. Не остался в стороне и Черноморский округ Северо-Кавказского края.
Местной еврейской секции было дано указание провести соответствующую работу среди еврейского населения Черноморского округа, в первую очередь среди евреев - членов ВКП(б). В результате еврейская секция решила «заняться непосредственно работой по популяризации проводимых мероприятий строительства и землеустройства в Биробиджанском районе, способствуя переселению и выявлению желающих ехать на землю в указанный район, о чем, в свою очередь, необходимо поставить в известность АПО ЧОКа ВКП(б)» [72, л. 19].
Из сказанного следует, что если партийное и государственное руководство Черноморского округа Северо-Кавказского края старалось удержать в округе представителей любого этноса, который уже проживал там, а также привлечь новые этнические группы на постоянное жительство, мотивировать живших там иностранцев и апатридов вступить в гражданство СССР, то в отношении евреев проводилась прямо противоположная политика. Она заключалась в том, чтобы удалить этот элемент с Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа в далекие районы Дальнего Востока России. Данная политика осуществлялась косвенными методами под благовидным предлогом необходимости содействия созданию еврейской административной автономии на территории Советского Союза. Также обращает на себя внимание то, что в обозначенном случае имела место внутренняя эмиграция, когда евреев побуждали выселяться из Черноморья не за рубеж, а на территории в пределах Советского Союза.
Из изложенного можно сделать следующие ключевые выводы.
Принцип почвы и принцип крови являются традиционной основой миграционной политики царской России и Советского Союза (в первой половине XX в.). Несмотря на это, государство старалось привлечь мигрантов для обеспечения социально-экономического развития территории. Мигранты должны были адаптироваться к условиям России и Советского Союза и интегрироваться в российские и советские реалии.
Черноморский округ Северо-Кавказского края в 20-е гг. XX в. был примером этого. Его этническая структура сложилась в конце XIX в. В то время, после окончания Кавказской войны (1817-1864), разные этнические группы из других территорий России и из-за рубежа переселились на исторически черкесские земли (обширные территории которых находились в составе России еще в X в.) Северо-Западного Кавказа.
Миграционная политика партийного и административного руководства Черноморского округа имела три основные задачи: во-первых, не допустить оттока мигрантов с территории Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа; во-вторых, использовать мигрантов для социально-экономического развития региона; в-третьих, интегрировать мигрантов в советскую реальность с формационной и цивилизационной точек зрения.
В 20-е гг. XX в. Новороссийский район был развитым районом Черноморского округа (индустрия, международный морской порт, сельское хозяйство). Также развитым был город Туапсе с прилегающей территорией. Оба района имели новые коммуникации (включая железную дорогу и морские порты). Сочинский район был экономически отсталым районом Черноморского округа фактически без современных коммуникаций.
Большинство населения Черноморского округа составляли славяне, в первую очередь русские. Однако в Сочинском районе лидирующую позицию по численности населения занимали армяне. Русские находились на втором месте.
Славяне и особенно немцы имели самый высокий уровень грамотности. У них наблюдались четкая социальная дифференциация и стойкие симпатии к коммунизму. Казаки отличались самостоятельной точкой зрения на многие вопросы, которая часто не совпадала с официальной позицией властей. Подчас казаки были инициаторами выселения из Северо-Западного Кавказа некоторых этносов, главным образом армян. Они бойкотировали украинизацию. Однако казаки были патриотичными и полезными для защиты южных рубежей России. Поэтому советское руководство старалось сохранить их как жителей Северо-Западного Кавказа в целом и Черноморского округа в частности.
Немцы и славяне были заняты в наукоемких отраслях промышленности и сельском хозяйстве. У немцев оно имело черты агропромышленного комплекса. Немцы не возражали против сельскохозяйственной кооперации, в отношении которой славяне занимали нейтральную позицию.
Греки мигрировали на Черноморское побережье Северо-Западного Кавказа из Османской империи несколькими волнами с конца XIX в. до 1923 г. Репрессии османов и кемалистов были главными причинами этой миграции. Цивилизационно греки соответствовали титульным и государствообразующим нациям России. Греческая община имела четкую социальную дифференциацию. Трудящиеся социальные слои греков во время Гражданской войны 191 8–1920 гг. активно поддерживали большевиков, участвуя в красно-зеленом партизанском движении. Однако уровень грамотности греков был низким (особенно женщин). Обучение греков читать и писать на родном языке выступало главной задачей властей Черноморского округа.
Уровень грамотности армянской общины был самым низким среди этнических общин Черноморского округа. Армяне были самыми низкоквалифицированными рабочими в промышленности либо крестьянами, которые жили в отдаленных селах, отличающихся слабой развитостью современных путей сообщения. Значительная их часть не умела ни читать, ни писать. В годы Гражданской войны армяне Сочинского района активно вступали в зеленые партизанские отряды антибелогвардейской, но не прокоммунистической, ориентации. Их политические идеалы имели партикулярный и аполитичный характер. Обучение армян грамоте являлось первоочередной целью власти. Воспитание их в коммунистическом духе и их интеграция в советскую действительность были следующими задачами.
Еврейская этническая община Черноморского округа Северо-Кавказского края была хорошо образованной, дисциплинированной, замкнутой. Она придерживалась стандартного принципа в межнациональных отношениях. Община была единственным объектом выселения из Черноморского округа в те районы Дальнего Востока, где правительство СССР создавало административную автономию для евреев. Это переселение являлось примером внутренней (в пределах границ СССР) миграции, запланированной руководством Советского Союза.
Ссылки:
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Ханмамедова Виктория Рамизовна
Список литературы Миграционная ситуация и миграционная политика в черноморском округе Северо-Кавказского края в 20-е гг. XX в
- Об образовании в составе РФ нового субъекта РФ - Черноморского края [Электронный ресурс] : проект федерального конституционного закона РФ // Сочи-24 : информационное агентство. 2010. 13 апр. URL: http://sochi-24.ru/politika/fkz-ob-obra-zovanii-v-sostave-rossijskoj-federacii-novogo-subekta-rossijskoj-federacii-chernomorskogo-kraya.2010413.16422.html (дата обращения: 05.04.2021).
- Там же.
- Акопян В.З. Проблемы национальных меньшинств в деятельности комиссии по национальной политике Северо-Кавказского крайкома (1920-е гг.) // Научная мысль Кавказа. 2013. № 2 (74). С. 76-79.
- Баранов А.В. Миграционные процессы и миграционная политика на Юге России в 1920-1933 гг.: основные тенденции развития // Общество: философия, история, культура. 2016. № 10. С. 82-85.
- Зуйкина Е.А. Некоторые аспекты переселенческой политики на Северном Кавказе в конце 20-х гг. // Новые страницы истории Отечества : межвузовский сборник научных статей / отв. ред. А.И. Кругов. Ставрополь, 1996. С. 108-113.
- Ракачев В.Н., Матвеев О.В., Ракачев Д.Н. Этнические миграции на Кубани: история и современность. Краснодар, 2003. 200 с. ; Ракачев В.Н., Ракачева Я.В. Народонаселение Кубани в ХХ в. Историко-демографическое исследование. В 4 т. Т. 1. 1900-1920-е гг. Краснодар, 2005. 199 с.
- Бершадская О.В.: 1) Армянское и греческое население Сочинского района в конце XIX - первой трети ХХ в. // Русская старина. 2011. № 2 (4). С. 23-29 ; 2) Влияние социально-экономических преобразований 1920-х гг. на хозяйственно-бытовые традиции этнических групп черноморской деревни // Голос минувшего. 2015. № 3-4. С. 64-73 ; 3) Особенности развития черноморской деревни в 1920-е гг. По материалам фонда Черноморского окружного комитета партии Центра документации новейшей истории Краснодарского края // Вестник архивиста. 2018. № 4. С. 1128-1136. https://doi. org/10.28995/2073-0101 -2018-4-1128-1136.
- Тверитинов И.А. Социально-экономическое развитие Сочинского округа во второй половине XIX - начале XX в. 2-е изд., испр. и доп. Майкоп, 2009. 124 с.
- Черкасов А.А., Меньковский В.И. Этнодемографические процессы в Северо-Восточном Причерноморье в XIX-XX вв. (в районе Большого Сочи) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 4 (10), ч. 2. C. 184-186. Бершадская О.В. Армянское и греческое население ...
- Подробнее об административной и политической автономии см.: Клинов А.С. Об основных факторах политики Китая в тайваньском вопросе // Голос минувшего. 2017. № 1-2. С. 85-107.
- Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм - панисламизм). XIX -начало XX в. М., 1985. 272 с.
- Ataov T. The «Armenian Question»: Conflict, Trauma & Objectivity. Ministry of Foreign Affairs. Ankara, 1999. 48 p. Национальный состав округа в процентном отношении // Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр документации новейшей истории Краснодарского края». Ф. 9оц. Черноморский (Новороссийский) окружной комитет ВКП(б). Оп. 1. Д. 543оц. Справка об экономике, социальном и национальном составе округа. Начато в 1925 г., окончено в 1925 г. Связка 14. Л. 1. Там же.
- Об этом подробнее см.: Клинов А.С., Сибиркина К.В. Об историческом развитии политики Российской Федерации в сфере миграции и гражданства // Общество: философия, история, культура. 2019. № 8 (64). С. 90-106. https://doi.Org/10.24158/fik.2019.8.14.
- Нота народного комиссара иностранных дел РСФСР послу Турции в РСФСР Али Фуаду от 18 мая 1921 г. № 11/1013 // Документы внешней политики СССР. Т. IV. М., 1960. С. 128-129.
- Нота народного комиссара иностранных дел РСФСР послу Турции в РСФСР Али Фуаду от 21 мая 1921 г. № 11/1053 // Там же. С. 131-132.
- Партпросвещение среди нацменов в Черокруге в 1926-1927 гг. // ЦДНИКК. Д. 819. Справки об итогах 1926-27 учебного года в системе парт. просвещения среди нацмен округа. Начато в 1927 г., окончено - дата не указана. Фондо-образователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Отдел п/о нацменьшинств. Л. 1-2.
- Протокол № 1 расширенного совещания Черноморской окружной греческой комсекции при АПО ЧОКа ВКП(б) от 15 мая 1927 г. // Там же. Оп. 1. Д. 817. Протоколы собраний, конференций, совещаний, бюро комсекций нацменьшинств. Начато 30 янв. 1927 г., окончено 25 дек. 1927 г. Связка 24. Фондообразователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Отдел АПО, подотдел нацменьшинств. Л. 13-21. Там же. Л. 13. Там же.
- Фрунзе М.В. Самсун. 31.11.1921-01.12.1921 // Фрунзе М.В. Неизвестное и забытое. Публицистика, мемуары, документы, письма / сост. М.А. Жохов. М., 1991. С. 205-208. Протокол № 1 расширенного совещания ... Л. 13.
- О византийском и стандартном подходах к межнациональным отношениям подробнее см.: Клинов А.С. Указ. соч. Протокол № 1 расширенного совещания ... Л. 18.
- Протокол расширенного совещания Черноморской окружной греческой комсекции при АПО ЧОКа ВКП(б) от 16 мая 1927 г. (председатель Романов, секретарь Федоров, присутствовали: зав. агитпропом ЧОКа ВКП(б) т. Романов, зам. зав. агитпропом т. Быков, секретарь греческой комсекции т. Левкопуло, представители с мест, курсанты греческого отделения совпартшколы и другие члены греческой комсекции; всего присутствовало 25 человек; документ дан таблицей) // ЦДНИКК. Ф. 9. Черноморский (Новороссийский) окружной комитет ВКП(б). Оп. 1. Д. 818. Протокол заседания бюро греческой комсекции АПО ЧОКа ВКП(б). Начато 9 янв. 1927 г., окончено 16 мая 1927 г. Фондообразователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Отдел п/о нацменьшинств. Л. 2-6.
- Протокол № (не указан) совещания секретарей партийных ячеек и избачей греческих населенных пунктов Черноморского округа, состоявшегося 15-16 марта 1928 г. // Там же. Д. 874. Протокол окружного совещания секретарей партийных ячеек и избачей греческих населенных пунктов. Начато 15 марта 1928 г., окончено 16 марта 1928 г. Связка 27. Фондообразователь: Новороссийский окружком ВКП(б). Отдел нацменьшинств п/о. Л. 1-9. Протокол № 1 общего собрания Греческой комсекции от 19/V-27 г. (присутствовали Халдояниди, Василиади, Андри-цопуло, Реизова, Популиди, Тюганджи, Ламбрианиди; документ дан таблицей) // Там же. Д. 817. Связка 24. Фондообразователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Отдел АПО, подотдел нацменьшинств. Л. 11-11 об. Протокол № 1 расширенного совещания ... Л. 14. Протокол расширенного совещания . Л. 2. Там же. Л. 4. Протокол № (не указан) совещания секретарей . Л. 1. Там же. Л. 8.
- Всесоюзная перепись населения 1926 г. Национальный состав населения по регионам РСФСР [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_26.php?reg=956 (дата обращения: 05.04.2021). Всесоюзная Коммунистическая партия (б). Черноморский окружной комитет. Новороссийск. Дворец труда. Телефон № 136. При ответе ссылайтесь на наш № 15/е. 26 нояб. 1928 г. Лично сов. секретно. тов. Пшеничному // ЦДНИКК. Ф. 9. Черноморский (Новороссийский) окружной комитет ВКП(б). Оп. 1. Д. 877. Схема обследования немецкой колонии. Начато 26 нояб 1928 г., окончено - дата не указана. Фондообразователь: Новороссийский окружком ВКП(б). Особая папка, в ч/з не выдавать. 21 л. Таблица 4 (без названия) // Там же. Л. 7.
- Таблица № 1. Динамика хозяйственного развития немецких колоний // Там же. Л. 2-3.
- Схема обследования экономической, культурной, советской и партийной работы в немецких колониях // Там же. Л. 18-21. Там же. Л. 20-21. Всесоюзная перепись.
- См., например: Ткаченко П.И. Кубанский говор. Опыт авторского словаря. 2-е изд. Краснодар, 2008. 287 с. Предложения по вопросу «О мерах улучшения работы нацменовской сети народного образования» // ЦДНИКК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 816. Протокол совещания секретарей комсекции при п/о отделе нацмен АПО окружкоме ВКП(б). Начато 29 июля 1927 г., окончено - дата не указана. Фондообразователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Отдел п/о нацменьшинств. Л. 2-2 об.
- Черноморскому окружному комитету РКП(б) // Там же. Д. 513. Справки о работе среди национальных меньшинств в г. Сочи, Туапсе, ст. Раевской. Начато 20 окт. 1924 г., окончено - дата не указана. Связка 13. Л. 3-4. Там же. Л. 4. Там же.
- Ракачев В.Н., Ракачева Я.В. Народонаселение Кубани в XX в. Т. 2. 1930-1950 гг. Краснодар, 2008. 268 с. Национальный состав округа . Л. 1.
- Там же.
- Галоян Г.А. Октябрьская революция и возрождение народов Закавказья. М., 1977. 293 с.
- Красильникова К.К. Партизанское движение на Кубани и Черноморье. Краснодар, 1957. 104 с.
- Отчет районного организатора Сочинского района Туапсинского отдела Т. Егорова-Карпова от 5 янв. 1921 г. № 202 // ЦДНИКК. Ф. 3664. Туапсинский отделком РКП(б). Оп. 1. Д. 3. Отчет районного организатора о политическом положении в Сочинском районе. Начато 10 нояб. 1920 г., окончено 10 нояб. 1920 г. Кор. № 1. Л. 1-1 об.
- Там же. Л. 1 об.
- Исх. 19/1745/57. Июня 8 1928 г.. Туапсинскому РК. Копия проверкомиссии. Отдел нацмен при ЧОКе ВКП(б) направляет заметку селькора Лазаревского сельсовета для расследования и принятия соответствующих мер. Секретарь армкомсекции при ЧОКе ВКП(б) (Саркисов). № 160. «Армяне хитрые и жадные» // Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 875. Протоколы заседаний бюро армянской, польской, татаро-башкирской, чешской и еврейской секции при АПО окружкома ВКП(б) и материалы к ним. Начато 19 февр. 1928 г., окончено 10 июня 1928 г. Фондообразователь: Новороссийский окружком ВКП(б). Отдел п/о нацменьшинств. Л. 35-36 об.
- Черноморскому окружному комитету РКП(б). Л. 3-4.
- Там же. Л. 4.
- Протокол заседания армкомсеции при АПО ЧОКа ВКП(б) от 2/VII-27 г. (присутствовали Симонян, Татеосян Тате-восян?, Хечо, Байтуни, Мартиросян, Карапетян, Мадатов, Вартанов; документ дан таблицей) // Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 817. Связка 24. Фондообразователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Отдел АПО, подотдел нацменьшинств. Л. 7-7 об.
- Там же.
- Предложения по вопросу ... Л. 2-2 об.
- Бершадская О.В. Колонизация сельских местностей Черноморского округа в годы нэпа // Человек. Сообщество. Управление. Актуальные проблемы исторической науки. Приложение. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2006. С. 6-11.
- План работы полкомсекции при ЧОКе ВКП(б) на июнь - октябрь 1927 г. // ЦДНИКК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 817. Связка 24. Фондообразователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Отдел АПО, подотдел нацменьшинств. Л. 40-43.
- Предложения по вопросу ... Л. 2.
- Сальменский сельсовет. Экономическое положение деревни // Там же. Д. 878. Справки о землепользовании и землеустройстве нацменьшинств в округе. Начато в 1928 г. (месяц и число не указаны), окончено - дата не указана. Связка 27. Фондообразователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Подотдел АПО нацменьшинств. Л. 3-5.
- Протокол № 1 совещания секретарей комсекций при п/о нацмен АПО ЧОКа ВКП(б) от 29 июля 1927 г. // Там же. Д. 816. Фондообразователь: Новороссийский окружной комитет ВКП(б). Отдел п/о нацменьшинств. Л. 1.
- Постановление Центрального бюро Венгерской секции Агитпропа при ЦК РКП(б) // Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 170. Справки, протоколы заседаний армянской, венгерской, греческой, мусульманской секций при окружкоме РКП(б). Начато 1 янв. 1921 г., окончено 15 нояб. 1921 г. Связка 4. Л. 3.
- Емельянов Ю.В. Троцкий. Мифы и личность. М., 2018. 495 с.
- О положении в Черноморской организации ВКП(б) в связи с работами XIV партсъезда : закрытое письмо // ЦДНИКК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 541. Закрытое письмо секретаря окружкома партии о положении в Черноморской организации ВКП(б) в связи с работами XlV партийного съезда. Начато в 1925 г., окончено - дата не указана. Связка 14. Фондообразователь: Новороссийский окружком РК, ГК КПСС. Отдел Общий. Л. 1-10.
- Там же. Л. 5.
- Протокол № 4 заседания бюро евкомсекции при АПО ЧОКа ВКП(б) от 22 апр. 1928 г. г. Новороссийск // Там же. Д. 875. Фондообразователь: Новороссийский окружком ВКП(б). Отдел п/о нацменьшинств. Л. 18-20.
- Там же. Л. 19.
- Там же.
- Там же.