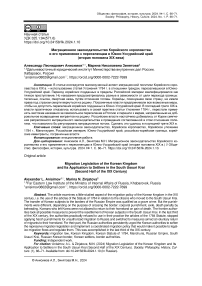Миграционное законодательство Корейского королевства и его применение к переселенцам в Южно-Уссурийский край (вторая половина XIX века)
Автор: Анисимов А.Л., Зинятова М.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется малоизученный аспект миграционной политики Корейского королевства в XIX в. - использование статей Уложения 1784 г. в отношении граждан, переселившихся в Южно-Уссурийский край. Переход корейских подданных в пределы Российской империи квалифицировался как тяжкое преступление. Но наказания предусматривались разные в зависимости от цели перехода границы: телесные, ссылка, смертная казнь путём отсечения головы. Корейцы, покинувшие свою страну, не имели права под страхом смерти вернуться на родину. Пограничные власти предпринимали все возможные меры, чтобы не допустить переселения корейских подданных в Южно-Уссурийский край. В последней трети XIX в. власти практически отказались использовать в своей практике статьи Уложения 1784 г., перестали применять жестокие наказания за самовольное переселение в Россию и перешли к мерам, направленным на добровольное возвращение мигрантов на родину. Российские власти настойчиво добивались от Кореи смягчения репрессивного миграционного законодательства и проведения согласованной в этом отношении политики, что позволило бы регулировать миграционные потоки. Сделать это удалось в последней трети XIX в.
Миграционное законодательство, корейское королевство, корейское уложение 1784 г, маньчжурия, российская империя, южно-уссурийский край, российско-корейская граница, корейские иммигранты, пограничные власти
Короткий адрес: https://sciup.org/149144334
IDR: 149144334 | УДК: 325.1:94(571.6) | DOI: 10.24158/fik.2024.1.10
Текст научной статьи Миграционное законодательство Корейского королевства и его применение к переселенцам в Южно-Уссурийский край (вторая половина XIX века)
1anisimovO8O2@gmail.com0,
1,2Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Khabarovsk, Russia 1anisimov0802@gmail.com0,
В 1860 г. Уссурийский край вошел в состав Российской империи, и у нее образовалась граница с Кореей, которая являлась в то время наиболее закрытым дальневосточным государством, проводившим политику самоизоляции. Соседство двух стран, общая граница, начавшаяся иммиграция корейцев и установление контактов между подданными двух монархий вызывали потребность у российских властей установить официальные отношения с Кореей. В этом в первую очередь были заинтересованы местные власти Восточной Сибири.
27 апреля 1861 г. императором Александром II был утвержден закон «О правилах для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири»1. Он потребовался с целью освоения пустынных земель русского Дальнего Востока, отошедших к России после подписания Айгунского2 и Пекинского договоров3 с Китаем. Русским и иностранцам, желающим поселиться в Амурской и Приморской областях, при условии переселения за свой счет предоставлялось право выбора свободных участков казенной земли во временное владение или в полную собственность в размере до 100 десятин на семью. Они освобождались от подушных податей навсегда, от воинской повинности – на 10 лет и от платы за пользование землей – на 20 лет (Сон, 2017).
В 60-е годы XIX в. по разным причинам в пределы дальневосточных владений России начинают в значительном количестве переселяться корейцы, которые содействовали освоению края. Наряду с внутренними причинами (голод, преследование властей и т.д.) к иммиграции их толкали и внешнеполитические факторы. Так, в связи с карательной экспедицией, организованной французами против Кореи осенью 1866 г., из нее ожидался массовый исход корейцев-католиков в российские пределы. Об этом предупреждал восточносибирские власти российский посланник в Китае А.В. Влангали4. Получив известие об обострении обстановки в Корее, генерал-губернатор Восточной Сибири М.С. Корсаков 30 декабря 1866 г. предписал военному губернатору Приморской области И.В. Фуругельму обратить особое внимание на положение дел в Корее и «не упустить для завязки сношений с корейцами первого удобного случая, который легко может представиться при враждебных отношениях их с европейцами»5.
Осенью 1869 г. в Южно-Уссурийский край начинается массовое переселение корейцев из Северной Кореи. Это было вызвано голодом и «разными гонениями и притеснениями со стороны местного начальства». Большой наплыв иммигрантов вызвал значительные затруднения в поддержании их существования со стороны местных властей. Кроме того, российские власти опасались, что при фактическом отсутствии русского населения край может превратиться в часть Кореи или Китая и в будущем отойти от России. Исходя из этих соображений, руководство империи попыталось убедить корейских иммигрантов возвратиться в Корею, но те отказались вернуться на родину даже под страхом смерти, заявив, что предпочтут умереть от русских штыков, чем от своих6.
Уже в 1867 г. корейские пограничные власти делали заявления, «но весьма слабые», по вопросу корейских беженцев, добиваясь прекращения их приёма русской стороной7.
Согласно Корейскому уложению (Дадян тун бян), изданному в 1784 г. в пяти книгах и действовавшему в XIX в., переход корейских подданных за границу, в том числе и в Маньчжурию (так как Уложение было принято в XVIII в., когда Россия еще не присоединила к себе Южно-Уссурийский край, территория Приморья рассматривалась законодателем как часть Маньчжурии), квалифицировался как тяжкое преступление. Но наказания предусматривались разные и зависели от цели перехода границы. Например, в Уложении говорилось: «Кто тайно уедет за границу в Маньчжурию и будет собирать там женьшень, тот подвергается смертной казни отсечением головы на границе».
«Если пограничные жители перейдут во внутреннюю8 страну, они подвергаются 100 палочным ударам и затем возвращаются на их прежнее местожительство9».
«Когда пограничные жители переселятся в чужую сторону, и местный начальник не донесет об этом, то он отставляется от должности, а старшина селения, из которого переселились, подвергается 100 палочным ударам и ссылкой за 3 000 ли на три года1»2.
Согласно Корейскому уложению, за вывоз из Кореи любой корейской книги виновный подвергался 100 палочным ударам. О других запрещенных к вывозу товарах подробно говорится в уголовном отделении Корейского уложения3.
Правительство Чосона хотело предотвратить переезд корейцев в Маньчжурию из-за страха потерять налоговые поступления и обеспечить безопасность границы с Китаем4 и Россией.
Российские власти попытались убедить переселенцев возвратиться в Корею. С этой целью местное русское пограничное начальство вошло в контакт с корейским правительством, добиваясь, чтобы оно приняло перебежчиков назад и не преследовало их, но переговоры не увенчались успехом, и корейцы отказались возвратиться назад на родину, где их ожидала или «голодная смерть, или поголовное истребление на основании существующих там законов».
В силу того, что корейцы, которые покидали Корею, по местным законам не имели права под страхом смерти вернуться на родину, они прерывали свои связи с Кореей, и их интересы «более отождествлялись с русскими», в отличие от китайцев.
В 1865 г. штабс-капитан П.А. Гельмерсен, отправленный генерал-губернатором Восточной Сибири М.С. Корсаковым в Корею летом 1865 г., в своем отчете о пребывании в гавани Посьет отмечал, что в Южно-Уссурийском крае имеются сезонные корейские мигранты, которые приходят в Посьет для работы по уборке хлеба и затем возвращаются домой, чтобы взять свои семьи или чтобы прийти в русские владения к началу новых полевых работ. Многие корейцы приходили с целью навестить родственников5. Таким образом, корейские власти не ко всем своим подданным, которые переходили границу, применяли жестокие наказания. Сезонные рабочие, которые уходили на заработки, вероятно, получали на это разрешение, возможно, неофициальное. Как отмечал генерал-губернатор Приамурского края П.Ф. Унтербергер, при этом корейские приграничные чиновники извлекали для себя некоторую выгоду, облагая эту категорию корейских трудовых мигрантов поборами6.
Местные корейские власти предпринимали все возможные меры, чтобы не допустить переселения подданных в Южно-Уссурийский край. Корейцы не могли продать свое имущество на родине. Если власти узнавали, что потенциальный мигрант пытается что-то продать из своего имущества, оно конфисковалось, а вероятные переселенцы жестоко наказывались7. Что вело к тому, что все желающие эмигрировать вынуждены были покидать родину вообще без каких-либо средств к существованию.
Военному командиру северного сектора провинции Хамгён Ли Нам Сику правительство предписало излавливать и сурово наказывать всех, кто вступал в контакты с русскими. Пуса (начальник города) г. Кёнхына должен был запретить под страхом смертной казни всякие сношения с русскими и уничтожать все перевозочные средства через р. Туманган. Караулы на корейско-российской границе должны были стрелять по перебежчикам. В июле 1865 г. к начальнику Новгородского поста поручику Рязанову (Резанову) явились корейцы, переселившиеся в ЮжноУссурийский край, и попросили освободить их родственников, которых арестовали корейские пограничные власти и должны были казнить. Рязанов отправил четырех своих офицеров с пятью солдатами к корейскому пограничному начальству. Они должны были уговорить корейские власти освободить арестованных (Пак, 2004: 83).
В октябре 1867 г. Н.М. Пржевальский совершил поездку на лодке в г. Кёнхын. Он встретился с пусой Юнь-Хабом, который просил передать российским властям, чтобы те выдали всех переселившихся корейцев, которым сразу после возвращения на родину отрежут головы8.
Н.М. Пржевальский отмечал, что корейские власти расстреливали тех корейцев, которых удавалось им захватить на пути в российские владения, но это не останавливало мигрантов1.
В конце сентября 1869 г. корейцы стали массово переходить на российскую территорию. Чтобы воспрепятствовать этому «пограничные корейские солдаты делали облавы на беглецов, толпами гнали их назад, стреляли из луков и ружей и поголовно убивали всех мужчин, оставляя в живых только женщин, и долго еще спустя после этого на корейском берегу Тумень-ула валялись трупы стариков и детей» (Насекин, 1904: 2).
В конце декабря 1869 г. И.В. Фуругельм отправил в Кёнхын полковника Дьяченко, а также пограничного комиссара в Южно-Уссурийском крае князя Трубецкого, переводчика Хан Ингука и выборных представителей корейских иммигрантов для переговоров с корейской стороной о приеме обратно переселенцев. Пуса (начальник пограничного округа) дал им письменное обязательство, что он не будет преследовать вернувшихся подданных Корейского королевства и примет меры для того, чтобы не допустить больше корейцев в Российскую империю.
В конце 1869 г. со становлением приграничной торговли корейские власти стали «легче смотреть на эмиграцию своих соотечественников в Россию, не оставаясь при этом в накладе, получая от них взятки. Тех же, кто самовольно переходил границу, после возвращения на родину ожидали жестокие наказания и казнь. Поэтому часть корейцев предпочитали отправляться в Маньчжурию2.
С конца декабря 1869 г. правительство Кореи и власти провинции Хамгён приняли меры для прекращения массовой эмиграции: усилили контроль на границе и постарались улучшить материальное положение населения провинции. Правительство обещало не наказывать возвращенцев, списать их долги и обеспечить всем необходимым для жизни (Пак, 1994: 25, 27–27)3. Но корейские переселенцы отказались возвращаться, несмотря на все увещевания военного губернатора Приморской области И.В. Фуругельма, а он не решился силой выдворить их.
Российский консул в Тяньцзине К. Вебер в июле 1882 г. побывал во Владивостоке, где встречался с пограничным комиссаром в Южно-Уссурийском крае Н.Г. Матюниным. Последний сообщил, что никаких заявлений корейских властей по поводу выдворения из России их подданных не было. Для предотвращения миграции в российские владения они запретили плавание по пограничной р. Туманган4.
В 1884 г. российские и корейские власти выработали соглашение, по которому все корейцы, перешедшие в Россию до 1884 г. и уже устроившиеся на земле, могли остаться в России и принять российское подданство, а переселившиеся после 1884 г. считались временно пребывающими и получали паспорта на определенный срок, по истечению которого должны были ликвидировать свое имущество и вернуться в Корею5.
В целях реализации этого соглашения корейский чиновник Хан приехал в урочище Новокиевское, где с ноября 1869 г. располагалось ведомство Пограничного комиссара в Южно-Уссурийском крае, и просил российского пограничного комиссара объявить корейцам, переселившимся в Россию после 1884 г., чтобы они возвращались на родину. Он обещал, что им простят самовольный уход и отведут земли для поселения, а также окажут помощь на первоначальное обзаведение6.
Петербург был настроен на признание этих мигрантов российскими подданными. Такая идея была отражена и в инструкции Министерства иностранных дел российскому поверенному в Корее К.И. Веберу в 1885 г. Документ предписывал убедить корейское правительство в необходимости признания подданными России и наделении соответствующими правами всех корейцев, переселившихся на российскую территорию до заключения договора 1884 г. В соответствии с этим К.И. Вебер поднял проблему правового статуса корейских мигрантов в ходе переговоров о сухопутной торговле в 1886–1888 гг. Русский дипломат смог убедить президента коллегии иностранных дел Кореи Ким Юн Сика внести в первоначальный проект договора статью о признании российской юрисдикции над всеми корейцами, прибывшими в Россию до 1884 г. Однако в последний момент корейское правительство изменило свое решение, не пожелав публично отказываться от своих подданных. При этом корейская сторона не возражала против того, чтобы российские власти продолжали соблюдать достигнутые устные договоренности (Бурдин, 2021: 96–97).
В результате в течение 1880-х гг. темпы переселения корейцев на территорию империи замедлились. Российское правительство также приняло во внимание позиции Кореи и Китая, поскольку эти государства были категорически против того, чтобы корейцам было разрешено селиться в приграничных районах российского Дальнего Востока7.
В 1888 г. в Сеуле были приняты «Правила сухопутной торговли с Кореей». Согласно ст. II документа, корейские подданные получили право свободно отправляться в Россию для торговых целей. Для этого они должны были получить от таможенных властей паспорт и предъявить его русскому начальству. Если корейский подданный попытался бы перейти корейско-русскую границу без билета (паспорта), его должны были отослать обратно. Корейские подданные имели право по своему желанию возвратиться на родину1.
C 1890 г. корейская миграция через русско-корейскую границу была узаконена как Петербургом, так и Сеулом. Однако параллельно шла и нелегальная миграция. В связи с этим пограничный комиссар в Южно-Уссурийском крае Н.Г. Матюнин в официальном рапорте № 562 от 14 июня 1890 г. на имя губернатора Приморской области подчеркивал: «На нашей территории проживает 1 420 корейских подданных по безвизовым паспортам». Причина этого заключалась в том, что у корейских иммигрантов не было денег, чтобы оплатить визу и гербовый сбор (Petrov, 2008: 166–167).
Стремясь сохранить самобытность страны, законсервировать социально-экономический и политический строй, власти Корейского королевства вплоть до последней трети XIX в. всячески препятствовали развитию контактов своих подданных с внешним миром, включая Российскую империю. Этому содействовало Корейские уложение, принятое еще в 1784 г., содержавшее статьи, которые запрещали корейцам покидать родину под страхом жестоких телесных наказаний и смертной казни. Целью их было причинения страданий преступнику, вид которых предупреждает других от совершения подобного деяния. Широко применялись мучительные виды смертной казни и телесных наказаний. Приговор приводился в действие публично, при массовом стечении народа. Но и это репрессивное миграционное законодательство не смогло выполнить свою роль, когда Корея в начале 60-х гг. XIX в. получила границу с Российской империей. Корейцы устремились в российские владения в поисках лучшей доли. Их не останавливали ни жестокие законы, ни карательные действия корейских пограничных властей, ни возможность высылки из России на родину. Российские власти настойчиво добивались от корейских коллег смягчения репрессивного миграционного законодательства и проведения согласованной двусторонней политики, что позволило бы ввести миграционные потоки в законное русло. В последней трети XIX в. корейская сторона практически отказалась использовать в своей практике статьи Уложения 1784 г., перестала применять жестокие наказания, в том числе смертную казнь за самовольное переселение в Россию. Были разработаны и начали активно внедряться меры, направленные на добровольное возвращение мигрантов на родину.
Иное отношение у корейских пограничных властей было к сезонной трудовой миграции корейцев в Южно-Уссурийский край: ей не препятствовали, за нее жестоко не наказывали. Это было связано с тем, что корейские отходники не покидали родину навсегда, а значит, это не грозило санкциям приграничным властям со стороны правительства Кореи. К тому же, такая ситуация экономически была выгодной не только для жителей приграничных территорий, но и местным властям, получавшим доход от этого вида миграции.
Список литературы Миграционное законодательство Корейского королевства и его применение к переселенцам в Южно-Уссурийский край (вторая половина XIX века)
- Бурдин Е.С. Оформление правового положения корейских мигрантов в России в XIX в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2021. Т. 38. С. 95-101. DOI: 10.26516/2222-9124.2021.38.95 EDN: AWJXHI
- Насекин Н.А. Корейцы Приамурского края // Журнал Министерства народного образования. 1904. Ч. CCCLII. С. 1-61.
- Пак Б.Д. Корейцы в Российской империи. Иркутск, 1994. 238 с.
- Пак Б.Д. Россия и Корея. М., 2004. 520 с. EDN: QOTJIN
- Сон Ж.Г. Корейцы: миграция по пути длиной в полвека (1864-1918) // Миграция корейцев на русский Дальний Восток: российско-корейские отношения. 1821-1918 гг. Документальная история. Тула, 2017. С. 35-78.
- Petrov A.I. Koreans in Russia in the Context of History of Russian Immigration Policy // International Journal of Korean History. 2008. Vol. 12. P. 157-197.