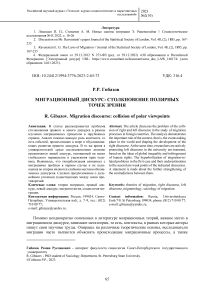Миграционный дискурс: столкновение полярных точек зрения
Автор: Гибазов Р.Р.
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Социология трудовой миграции
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема столкновения правого и левого дискурса в рамках изучения миграционных процессов в зарубежных странах. Анализ показал важную роль контекста, то есть событий, происходящих в мире и обуславливающих развитие правого дискурса. В то же время в университетской среде исследователями активно продвигается левый дискурс, основанный на идеях глобального неравенства и ущемления прав человека. Выявилось, что гиперболизация связанных с миграциями проблем в первом случае и их недооценка во втором являются слабыми местами обозначенных дискурсов. Сделано предположение о дальнейшем усилении существующих между ними противоречий.
Теории миграции, правый дискурс, левый дискурс, мигрантология, социология миграции
Короткий адрес: https://sciup.org/142238833
IDR: 142238833 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24412/1994-3776-2023-2-65-73
Текст научной статьи Миграционный дискурс: столкновение полярных точек зрения
Помимо неоднократно описанных в литературе миграционных теорий, важное место в миграционном дискурсе, занимают метатеории, то есть, контексты, в рамках которых авторы пишут свои научные труды. Опираясь на различные теоретические основы, исследователи миграции часто пытаются объяснять происходящие миграционные процессы, а также
Гибазов Роман Русланович - аспирант факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета
R. Gibazov - PhD student of Sociology Department, St. Petersburg State University.
предлагают варианты решения существующих проблем, с которыми сталкиваются развитые страны в связи с возрастающими миграционными потоками.
В центре внимания настоящей статьи и находятся подобные метатеории, часто антагонистичные друг другу, а именно, традиционные левые и правые идеи, дискуссии вокруг которых ведутся практически по всем направлениям и вопросам внутри изучения миграции.
В настоящее время редко можно увидеть крайние проявления этих дискурсов, однако в умеренном виде они встречаются практически повсеместно. Под правым дискурсом мы будем понимать идеи относительно миграций, учитываюшие, в первую очередь, интересы принимающей страны. Под левым дискурсом – идеи, связанные в целом с правами человека и глобальным неравенством.
Проблема заключается в том, что столкновение этих дискурсов в условиях возрастающих миграционных потоков и накапливающихся противоречий внутри принимающих и отправляющих стран нередко приводит к превратному толкованию сущности миграций, взаимным обвинениям оппонентов, а также к снижению конструктивности диалога. В связи с этим целью данной статьи будет являться анализ этих доминирующих дискурсов с учётом контекста, в котором они существуют, для выявления сущности их столкновения.
Роль контекста в развитии правого дискурса
Правый дискурс, в целом, тесно связан с кризисом теории государства всеобщего благосостояния. Изначально, противоборство экономических теорий чрезвычайно обострилось в 30-х годах XX века по причине Великой депрессии, одной из последствий которой была массовая безработица. В эти годы разрабатывает свою теорию английский экономист Д. М. Кейнс, [6] который, критикуя идею классиков о невмешательстве государства в экономику, предлагал усиление этого вмешательства. Государственное вмешательство в экономику действительно усилилось при Новом курсе Рузвельта, который, вопреки распространённому мнению, не был основан на кейнсианской теории.
Термин «социальное государство» был выдвинут немецким экономистом Л. Штейном в 1850 году. Социальные государства, в современном понимании, стали появляться после Второй мировой войны. Эти государства отличаются сильной социальной политикой, направленной на улучшение качества жизни граждан.
Следовательно, развитые страны с высоким уровнем жизни и социальными гарантиями стали чрезвычайно популярными у мигрантов, которые, согласно неоклассической экономической теории, являются максимизаторами полезности для самих себя. В этом контексте, в дискурсе обострилась проблема использования социальных гарантий, связанная с «иждивенчеством» вновь прибывших мигрантов. В качестве ответа, было принято решение проводить либеральные реформы, и в 1970-х годах, начиная с Р. Рейгана и М. Тэтчер, в политическом дискурсе началось доминирование неолиберализма. Ключевым положением неолиберализма является необходимость снижение участия государства в экономике Основным теоретическим обоснованием неолиберализма стала работа Ф. Хайека «Дорога к рабству» [10], которая обосновывала необходимость отказа от вмешательства государства, указывая на то, что оно постепенно забирает свободу у тех, кто решит заменить её комфортом. Итогом вмешательства государства, по мнению Ф. Хайека, неизбежно становится тоталитаризм.
Следует заметить, что, даже несмотря на приход неолиберализма, миграционные потоки в развитые страны не прекратились, на что указывает классический труд Дж. Харриса и М Тодаро [20], в котором они писали, что если не вводить ограничения на миграции, то люди всё равно будут считать миграцию выгодным для себя решением.
Вслед за неолиберализмом с конца XX века вводятся ограничения на миграции, предполагая выгодный для государства акцент на квалифицированных специалистах Следствием этого стал факт облегчения условий миграции для специалистов, но осложнение их для всех остальных.
Позднее в дискурсе, появляются мотивы недостаточности ограничений миграции и неолиберализма, основанные на продолжающимся росте количества мигрантов.
В начале 2000 годов в работе Д. Мэсси появилась идея эффективного управления миграциями [23], однако Европейский миграционный кризис 2015 года показал неэффективность существующих миграционных мер в странах Европейского союза. Это предоставило возможность в научном и политическом дискурсе вернуться к идеям о миграции шестидесятых годов, в частности, предложенных в работе Э. Ли [22] о том, что из наименее развитых стран неподвижное местное население перемещается только под давлением каких-либо критических событий (таких как, например, война в Сирии) и имеет массовый характер.
Первоначально оптимистичный настрой руководителей европейских государств сменился на прямо противоположный, что привело к тому, что начали вводиться дополнительные ограничительные меры, чтобы сдерживать усилившиеся миграционные потоки. Это затронуло не только Европу. Наиболее жёсткие ограничительные меры существовали в Австралии. Когда власти осознали, что неспособны принять то количество мигрантов, которое желает прибыть в Австралию, была мобилизована армия, чтобы отправлять нелегальных мигрантов обратно. Также был создан лагерь, где находились под контролем все беженцы или лица, претендующие на этот статус. В средствах массовой информации обсуждались плохие условия жизни в лагере для мигрантов и т.п.. [5].
Необходимость ограничения миграционных потоков не возникла спонтанно, а имела определённые причины. В мировом сообществе впервые данные по миграционному кризису обсуждались в 2015 году на саммите ЕС-Турция в Брюсселе, когда за первые 10 месяцев в Европу прибыло около 1.5 миллионов мигрантов [2, С. 61]. Европейские страны столкнулись с необходимостью принимать и адаптировать большое количество людей иной культуры, что нередко сопровождалось дискуссиями относительно необходимости принятия беженцев европейскими странами.
Спустя несколько лет после событий 2015 года стало очевидно, что бесконтрольно разрешив въезд беженцам, которые тогда стояли у границы, руководство ЕС допустило ошибку. Проблема стала очевидна из-за возникновения ряда происшествий, связанных с резонансными преступлениями, совершёнными прибывшими мигрантами, среди которых особое место в дискурсе занимает, например, массовые изнасилования женщин в Кёльне в 2016 году [4].
У населения Европы постепенно усиливался запрос на увеличение контроля миграционных потоков и введение прямых запретов. Это запрос выразился в усилении праворадикальных партий [7]. Помимо обычных преступлений Европа столкнулась с угрозой терроризма, поскольку бесконтрольное принятие беженцев из других стран повлекло за собой совершение серии террористических актов. Наиболее серьёзной из них считается серия скоординированных терактов в Париже 13 ноября 2015 года [8].
Исследователи, проанализировав данные из 154 стран на протяжении с 1970-2007, указывают на то, что чем больше беженцев принимает страна, тем с большим количеством террористических актов ей приходится иметь дело [19, С. 58].
Среди причин, из-за которых среди мигрантов и беженцев могут распространяться экстремистские настроения, часто выделяются негативное отношение к беженцам, а также плохие условия содержания в лагерях для беженцев [25, С. 624-625]. Вместе с тем, размышляя на тему адаптации мигрантов как способа противодействия распространению экстремистских идей, некоторые авторы считают, что более мягкая интеграция и толерантное отношение между разными культурами могут помочь снизить риск вовлечения мигрантов в террористическую деятельность [28, С. 2409].
В противовес этому сторонники правого дискурса настаивают на идее о том, что государству не следует слишком много внимания уделять беженцам, и оно должно сосредоточиться на своих гражданах. Всё дело в том, что повышенное внимание к мигрантам со стороны государства и толерантное отношение со стороны общества не всегда могут полностью решить возникающие проблемы.
Возвращаясь к теме иждивенчества, следует отметить, что она возникла не столько с первым поколением мигрантов, сколько с последующими, то есть с теми, кто уже родился в развитых странах. Мигранты во втором и третьем поколении привыкают получать, например, большие пособия по безработице, но при этом оказываются не способными прикладывать усилия, получать образование и работать наравне с коренными жителями этих стран. Здесь следует отметить работу К. Шифф «Бёры vs Бледары: представители разных волн миграции из неевропейских стран во французском обществе» [1], описывающая положение во Франции.
Франция, являясь одной из самых толерантных стран Европы, уже давно сталкивается с необходимостью адаптировать мигрантов на своей территории. Одним из основных миграционных потоков традиционно являлся поток из бывших колоний. В работе К. Шифф описывается то, как происходят интеграция и адаптация вновь прибывших мигрантов (бледары), а также то, как себя ощущают потомки мигрантов, родившиеся во Франции (бёры). Так, например, покидая свою страну, люди надеются повысить свой уровень жизни, сбежать от войны или репрессий, от неблагоприятного эмоционального климата. Однако впоследствии, находясь во Франции, потомки мигрантов сталкиваются со стигматизацией по этническому принципу и оказываются буквально запертыми в рамках малоразвитых пригородов, где формируются гетто. Те, кто недавно приехал, испытывают эмоциональный подъём, так как у них ещё в памяти сохранились причины, заставившие их уехать из родной страны, и они более охотно приспосабливаются к требованиям принимающего общества.
Анализ работы К. Шифф показывает, что изначальный энтузиазм мигрантов со временем угасает. Например, они сталкиваются с невозможностью войти в ту часть общества, в которой бы им хотелось находиться. Обычно это связано с проблемами в обучении, с тем, что они не всегда могут получить тот подходящий для социальной мобильности уровень образования, а также не последнюю роль играет их национальная принадлежность. Помимо этого, добавляется проблема взаимного недовольства, а порой даже ненависти между бёрами и бледарами.
Возвращаясь к теме социального государства, следует отметить, что некоторые исследователи рассматривают избирательное исключение и включение нелегальных мигрантов в службы социального обеспечения как инструмент контроля над мигрантами, которые уже прибыли в принимающую страну [14]. С одной стороны, необходимо ограничивать доступ к социальной сфере лицам, не являющимся гражданами принимающей страны, так как заложенного бюджета не хватит абсолютно на всех. При этом национальные правительства сталкиваются с тем, что, несмотря на введенные ими строгие ограничительные меры на федеральном уровне, местные муниципалитеты склонны проводить более мягкую политику. Это связано с тем, что, если полностью закрыть доступ, например, мигрантам, которым было отказано в предоставлении убежища, к социальным благам, это будет приводить к повышению социальной напряжённости на местах, которая может приводить к росту преступности, что, в свою очередь, может быть использовано в оппозиционной риторике. Поэтому возникают различия между указами правительства и реальными действиями местных муниципалитетов [21]. При этом производится разделение на тех, кто заслуживает помощи, и тех, кто её недостоин. Например, приводится такой список категорий тех, кто заслуживает доступа к социальной сфере принимающего государства: семьи с детьми; лица, имеющие проблемы со здоровьем и лица, сотрудничающие с местными органами по вопросу их депортации [13, C. 51-53].
Затрагивая культурное взаимодействие местного населения и мигрантов, также можно отметить некоторые проблемы. Одной из них является попытка навязывать свои культурные обычаи местному населению. Подобное происходит в разных странах, например, в Германии приезжие мусульмане пытаются навязать свои культурные нормы немецкому населению – обучение исламу в школе, разрешение на ритуальные жертвоприношения, публичный призыв к молитве и т.д. [27, С. 447-448]. Также во Франции нередко возникают протесты в связи с проникновением ислама в школы, а французский аналитический центр «Институт Монтень» прогнозирует Франции «ползучую исламизацию» [9].
Также различается реакция развитых стран на мигрантов в зависимости от их квалификации. Миграции высококвалифицированных специалистов приветствуются, а низкоквалифицированные люди осуждаются как нежелательные мигранты. Отток специалистов из бедных стран получил название «утечка мозгов» (brain drain). Интерес представляет то, что появился термин для развитых стран – «приток мозгов» (brain gain). И реальность такова, что развитым странам приходится бороться за этих специалистов, предлагая для квалифицированных мигрантов комфортные условия для работы и жизни [17]
Левый дискурс в университетской среде. Не всегда удаётся с полной уверенностью определить учёного, как сторонника той или иной идеи, входящей в конкретный дискурс Однако, учитывая левый поворот, произошедший в конце XX века, а также проникновение левых идей в западные университеты, можно предположить, что многие западные учёные, так или иначе, заняли относительно нейтральную позицию, либо активно придерживаются левого дискурса. Высказывание иных идей, особенно правого толка, может повлечь за собой общественное отчуждение в виде культуры отмены (обвинения в расизме, сексизме и т.д.) Таким образом, современные западные учёные будут писать работы скорее в левом дискурсе, а идеи иного толка будут высказываться с осторожностью.
Проанализировав западный научный дискурс, можно выделить несколько направлений, которые укладываются в рамки дискурса левого толка: 1. Корневые причины миграций; 2 Исламофобия; 3. Секьюритизация мигрантов; 4. Соблюдение прав человека; 5 Неэффективность ограничительных мер.
В целом эти направления являются критикой правого дискурса. К левому дискурсу можно отнести группу исследователей глобализации, которые рассматривают происходящие процессы в разных областях социологии, экономики и исследованиях миграции (С. Кастлес, Р. Уайз, Д. Сайфер, Г. Велтмайер и т.д.). На их работы непосредственно повлияли идеи марксизма, Франкфуртской школы, работы А. Грамши. Все эти тексты, так или иначе, касаются понятий Глобального Юга и Глобального Севера. Также они выделяют две перспективы, которыми описывают рассматриваемые в этой работе дискурсы: Северная и Южная перспективы.
Северная перспектива (Northern Perspective) – это то, как они называют доминирующий правый дискурс. Смысл Северной перспективы в том, что проблемы рассматриваются с позиций развитых стран, то есть «угнетателей». А Южная перспектива (Southern Perspective) – это левый дискурс, который противостоит правому, то есть Северной перспективе. Южная перспектива рассматривает миграции с позиций слаборазвитых бедных стран, то есть «угнетённых».
Как уже отмечалось выше, Д. Мэсси в своих работах призывал признать миграции неотъемлемой частью современной жизни, а также управлять миграционными потоками более эффективно («эффективный миграционный менеджмент»). Одновременно с этим, С Кастлес критикует идею эффективного менеджмента, указывая на то, что уменьшить миграционные потоки можно только решив корневые причины миграций. Под корневыми причинами понимается неравенство Глобального Севера и Глобального Юга. И миграционный контроль понимается как регулирование отношений между Севером и Югом для поддержания неравенства [18, С. 223].
Рассуждая о том, почему миграционная политика развитых стран постоянно терпит неудачи, С. Кастлес утверждает, что политической элите не выгодно прекращение миграционных потоков, так как они обеспечивают приток необходимой дешёвой рабочей силы на рабочие места, на которых местные жители отказываются работать. Эту ситуацию он обозначил как конфликт интересов и скрытую повестку в миграционной политике [там же, С. 214]. То есть, обращаясь к недовольному местному населению, политики говорят о необходимости сдерживания миграционных потоков, а в реальности – способствуют продолжению этих потоков. При этом вводятся дополнительные ограничительные меры и происходит планомерная стигматизация мигрантов с целью снизить стоимость труда мигрантов ради получения выгод принимающими странами.
Б. Андерсон [12] и С. Кастлес [16] сходятся во мнениях о двух исторических процессах, которые привели к современным миграциям: колониализм и неолиберализм. Вслед за И Валлерстайном [3], они указывают на колониализм. При этом Б. Андерсон подчёркивает ответственность развитых стран, говоря о том, что слово «мародёрство» будет лучшим описанием европейского расизма, рабства и империализма в Африке и Азии [12, с. 1533].
Вслед за Д. Харви, ряд авторов указывают на появление неолиберального глобального экономического порядка. Д. Харви, теоретик марксизма в 2005 году в своей работе «Краткая история неолиберализма» [11] подверг критике неолиберальный порядок, указывая на проблемы резкого падения уровня жизни, с которым столкнулись представители рабочего класса в бедных странах. Он также указал на массовое обогащение небольшого числа лиц в этих странах и отток капитала в развитые страны (США и Великобритания) из-за прихода неолиберализма.
Говоря о неравенстве, крайне левую позицию занимает мексиканский исследователь миграции Р. Уайз. Он ставит себя в оппозицию к доминирующему дискурсу, критикуя его за концептуальную ограниченность. По его мнению, этот дискурс не учитывает исторический и политический контекст современного капитализма, упускает важные аспекты взаимосвязи между миграцией и развитием, не учитывает корневые причины миграций, игнорирует права человека, принижает вклад мигрантов в принимающие общества и не замечает те опасности, с которыми сталкиваются мигранты в странах транзита.
Концептуальную ограниченность Северной перспективы он видит в том, что она рассматривает только горизонтальные отношения: влияние на страны исхода, страны транзита, влияние на принимающие страны. Южная перспектива учитывает ещё вертикальные отношения и контекст: нарушение прав мигрантов и их семей, корневые причины, лежащие в основе происходящих миграционных процессов, а также неолиберальный мировой порядок.
При этом Р. Уайз критически смотрит на денежные переводы, которые мигранты отправляют домой своим родственникам (remittances). В правом дискурсе эти переводы рассматриваются как помощь семьям мигранта, как дополнительный источник финансирования и дополнительный поток финансов для поддержания экономики менее развитой страны и для её дальнейшего развития. Р. Уайз рассматривает денежные переводы как не эффективный инструмент борьбы с бедностью [26, с. 165]: эти денежные потоки не развивают слаборазвитые страны, а направлены на поддержание их на том же уровне развития.
Говоря о стигматизации мигрантов, он утверждает, что чем более уязвимы мигранты, тем больше выигрывают их работодатели; их социальная изоляция ведёт к увеличению прибылей и финансовых выгод как для работодателей, так и для правительств принимающих стран [там же, С. 166].
Зачастую дискурс о развитых странах замыкается на том, что они несут потери от того, что мигранты отправляют денежные переводы своим семьям. Однако Р. Уайз приводит пример с мексиканскими мигрантами в Соединённых Штатах. Мексиканские мигранты отправляют домой только 30% от той суммы, которую они вкладывают в получение образования в США [там же, С. 172].
Также Р. Уайз переосмысливает утвердившееся определение вынужденной миграции Соглашаясь со С. Кастлесом в том, что общепринятая концепция «вынужденной миграции» не применима ко всем мигрантам и что большинство текущих миграционных потоков не являются вынужденными перемещениями, он расширяет определение вынужденных миграций.
В области прав человека термин «вынужденная миграция» относится к просителям убежища, беженцам или перемещенным лицам. Однако динамика неравномерного развития привела к структурным условиям, которые способствуют массовой миграции обездоленных, маргинализированных и исключенных групп населения. В этих обстоятельствах миграция, по сути, превратилась в вынужденное перемещение населения, охватывающее следующие формы: а) миграция в результате насилия, конфликтов и катастроф, включая беженцев, внутренне перемещенных лиц и просителей убежища; б) торговля людьми и контрабанда; в настоящее время многие люди привлекаются к принудительному труду из-за внутренней и международной торговли людьми; в) миграция из-за лишения прав собственности, изоляции и безработицы – безусловно, самая большая категория вынужденной миграции, миллионы международных и внутренних «экономических» мигрантов; г) обратная миграция в ответ на массовые депортации, влекущие за собой процесс двойной вынужденной миграции Мигранты были вынуждены покинуть свои страны происхождения и затем снова вынуждены возвращаться во все более уязвимых и небезопасных условиях [там же, С. 169].
Дискуссии о правах человека активно проводятся в рамках левого дискурса. Совместно с этим поднимаются две темы: проблемы секьюритизации мигрантов и исламофобия. Два этих процесса возникли как ответ на теракты, совершаемые мигрантами мусульманского вероисповедания, особенно после теракта 11 сентября 2001 года в США.
Секьюритизация означает дискурсивную формулировку чего-либо как проблемы безопасности и, таким образом, инициирование политических мер для ее решения. В рамках дискурса секьюритизации исследователи склонны утверждать, что угроза искусственно создается политическими элитами в своих интересах и не имеет под собой веских оснований При этом секьюритизация разделяется на два вида: краткосрочный и долгосрочный.
Первый вид дискурса секьюритизации (угроза насилия) относится, в первую очередь, к внешним границам и исключению, поскольку он истолковывает мигрантов и беженцев как приносящих с собой терроризм и преступность, и, следовательно, мигранты не должны допускаться на территорию или иметь вид на жительство.
Второй вид, долговременная угроза миру, направлен на внутренние границы и исключения: исключение из эгалитарных обещаний гражданства.
В итоге, миграция предстаёт как опасность для общественного порядка, для мирной совместной жизни, для системы государства всеобщего благосостояния, для рынка труда и для культурной самобытности. Другими словами, как только мигранты пересекают жесткие границы допуска к долгосрочному проживанию и даже к гражданству, они изображаются как противники экономической и социальной интеграции, а также местных социальных и культурных ценностей. И, таким образом, их политическая и социально-экономическая маргинализация становится оправданной [15, С. 5].
Неэффективность ограничительных мер обычно объясняется тем, что, независимо от того, насколько жёсткими будут эти меры, всё равно мигрантам удастся проникнуть в ту страну, в которую они хотят попасть. От усиления ограничительных мер увеличиваются затраты бюджета, увеличивается доход контрабандистов и усиливается нелегальная миграция [24].
В статье были проанализированы два миграционных дискурса – правый («Северная перспектива») и левый («Южная перспектива»). Оба вносят своё понимание в анализ и представление о миграционных процессах, а также предполагают собственные пути для решений возникающих миграционных проблем.
Теории миграции и исследования учёных, поддерживающих левый дискурс, опираются на представление о сложившихся исторически неравноправных отношениях между странами исхода и принимающими странами, а также на идею социальной справедливости Сторонники правого дискурса исходят из уже сложившейся ситуации, объясняя миграционные потоки с позиции разных научных дисциплин.
На основе изученных данных можно сделать вывод, что Северная перспектива склонна гиперболизировать возникающие проблемы, в то время как Южная склонна их недооценивать.
В правом дискурсе, например, это проявляется в излишнем внимании к мигрантам, приезжающим из исламских стран, или может присутствовать обеспокоенность угрозой культурного замещения из-за разницы в количестве населения, описанном в теории демографического перехода, а также в гендерном составе приезжающих мигрантов. Левый дискурс в данной ситуации будет говорить об интернационализме, правах человека и противодействии дискриминации.
В левом дискурсе недооценка происходит, например, в ситуации обсуждения секьюритизации мигрантов. Есть объективные факты, которые проявляются в том, как уже было представлено выше, что, чем больше мигрантов въезжает в страну, тем больше террористических актов совершается на её территории. Также это связано с повышением уровня преступности.
Местное население, так или иначе, будет реагировать на появление возрастающих потоков мигрантов, и необходимо отслеживать его реакцию, своевременно разрешать возникающие проблемы. Иначе это может приводить к радикализации населения принимающих стран.
Известно, что миграционный кризис 2015 года привёл к росту поддержки радикальных правых партий в Европе. Также можно предположить, что противостояние этих двух дискурсов в дальнейшем будет увеличиваться по двум причинам. Во-первых, это угроза депопуляции в развитых странах, из-за которой этим странам придётся принимать мигрантов, иначе не удастся поддерживать на том же уровне существующую пенсионную систему. Во-вторых, в связи с прибытием всё большего числа людей иной культуры будут увеличиваться конфликты, связанные с взаимодействием разных культур и мировоззрений.
Список литературы Миграционный дискурс: столкновение полярных точек зрения
- «Бёры» vs «Бледары»: представители разных волн миграции из неевропейских стран во французском обществе / пер. с фр. Мишель Дебренн; редакторы пер. В.А. Арсеньева, О. В. Колесова - Томск: Изд-во Том. ун-та. - 2021. - 200 с.
- Бибикова О. П. Миграционный кризис 2015 г. в Европе и его последствия // Актуальные проблемы Европы. - 2016. - №4. - С. 61-82.
- Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н.Тюкиной. - М.: Издательский дом «Территория будущего». - 2006. - 248 с.
- Германия больше не верит беженцам // газета.ги [Электронный ресурс]. - URL: https://www.gazeta.ru/social/2016/01/10/8014001.shtml (дата обращения 10.05.2023)
- Гуантанамо для беженцев. Как жесткие методы помогли Австралии победить нелегальную миграцию // Lenta [Электронный ресурс]. - URL: https://lenta.ru/articles/2016/02/18/australian_gitmo/ (дата обращения 03.05.2023)
- Кейнс Дж. М. Избранные произведения: Пер. с анг. / Предисл., коммент., сост.: А.Г. Худокормов. -М.: Экономика. - 1993. - 543 с.
- Правый поворот Европы // РБК [Электронный ресурс]. - URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2014/04/08/56befc869a7947299f72d2a2 (дата обращения 12.05.2023)
- Теракты в Париже 13 ноября 2015 года // РИА НОВОСТИ [Электронный ресурс]. - URL: https://ria.ru/20171113/1508479849.html (дата обращения 12.05.2023)
- Франции грозит ползучая исламизация // Иносми [Электронный ресурс] URL: https://inosmi.ru/social/20181016/243469656.html (дата обращения 26.04.2023)
- Хайек Ф.А. Дорога к рабству I Пер. с англ. - М. : Новое издательство. - 2005. - 264 с.
- Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение II Поколение. - 2007. - 288 с.
- Anderson B. Towards a new politics of migration? II Ethnic and Racial Studies. - 2017. - V. 40. - №9. - P. 1527-1537.
- Ataç I. Deserving Shelter: Conditional Access to Accommodation for Rejected Asylum Seekers in Austria, the Netherlands, and Sweden II Journal of Immigrant & Refugee Studies. - 2019. - V. 17. - №1. - P. 44-60.
- Ataç I. Social Policies as a Tool of Migration Control II I. Ataç, S. Rosenberger II Journal of Immigrant & Refugee Studies. - 2018. - V. 17. - №1. - P. 1-10.
- Banai A. Securitization of migration in Germany: the ambivalences of citizenship and human rights II A. Banai, R. Kreide II Citizenship Studies. - 2017. - V. 21. - №8. - P. 903-917.
- Castles S. Migration policies are problematic - because they are about migration II Ethnic and Racial Studies. - 2017. - V. 40. - №9. - P. 1538-1543.
- Castles S. Rethinking Australian migration II Australian Geographer. - 2016. - V. 47. - №4. - P. 391-398.
- Castles S. Why migration policies fail II Ethnic and Racial Studies. - 2004. - V. 27. - №2. - P. 205-227.
- Choi SW No Good Deed Goes Unpunished: Refugees, Humanitarian Aid, and Terrorism II SW Choi, I. Salehyan II Conflict Management and Peace Science. - 2013. - V. 30. - №1. - P. 53-75.
- Harris J. R. Migration, Unemployment, and Development: A Two-Sector Analysis II J. R. Harris, M. P. Todaro II The American Economic Review. - 1970. - V. 60. - №1. - P. 126-142.
- Kos S. Policies of Exclusion and Practices of Inclusion: How Municipal Governments Negotiate Asylum Policies in the Netherlands II S. Kos, M. Maussen, J. Doomernik II Territory, Politics, Governance. - 2015. - V. 4. -№4. - P. 354-374.
- Lee E. S. A theory of migration II Demography. - 1966. - V. 3(1) - P. 47-57.
- Massey D. S. A Synthetic Theory of International Migration II World in the mirror of international migration.- 2002. - №10. - P. 143-153.
- Massey D. S. The Counterproductive Consequences of Border Enforcement II Cato Journal. - 2017. - V. 37. - №3. - P. 539-554.
- Milton D. Radicalism of the Hopeless: Refugee Flows and Transnational Terrorism II D. Milton, M. Spencer, M. Findley II International Interactions. - 2013. - V. 39. - №5. - P. 621-645.
- Wise R. D. On the Theory and Practice of Migration and Development: A Southern Perspective II Journal of Intercultural Studies. - 2018. - V. 39. - №2. - P. 163-181.
- Yurdakul G. State, Political Parties and Immigrant Elites: Turkish Immigrant Associations in Berlin II Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2006. - V. 32(3). - P. 435-453.
- Zalyaev R. Effectiveness of Adaptation and Integration Mechanisms in Prevention of the Dissemination of Ideologies of Extremism and Terrorism among Migrants II R. I. Zalyaev, S. R. Efimova II International Journal of Criminology and Sociology. - 2020. - V. 9. - P. 2406-2412.