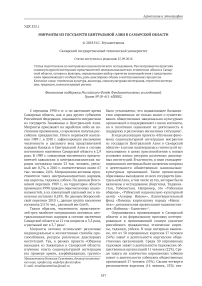Мигранты из государств Центральной Азии в Самарской области
Автор: Мухаметшина Наталья Семеновна
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Археология и этнография
Статья в выпуске: 3-2 т.20, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья подготовлена по материалам социологического исследования. Рассматриваются практики социокультурной интеграции представителей центральноазиатских этнических общин в Самарской области, условия и факторы, определившие выбор стратегии взаимодействия с представителями принимающего сообщества, роль диаспорных общин в интеграционных процессах.
Этническая культура, диаспора, социокультурная интеграция, стратегии интеграции, традиции, поликультурный регион
Короткий адрес: https://sciup.org/148312445
IDR: 148312445 | УДК: 325.1
Текст научной статьи Мигранты из государств Центральной Азии в Самарской области
Финансовая поддержка Российского Фонда Фундаментальных исследований.
Грант №18-411-630002.
С середины 1990-х гг. и по настоящее время Самарская область, как и ряд других субъектов Российской Федерации, осваивается мигрантами из государств Закавказья и Центральной Азии. Мигранты приезжают на заработки либо на постоянное проживание, со временем получая российское гражданство. Итоги переписей населения 1989 г. и 2010 г. зафиксировали увеличение численности и удельного веса представителей народов Кавказа и Центральной Азии в составе постоянного населения Самарской области в 2,9 раза. В 1989 г. совокупная численность представителей кавказских и центральноазиатских народов составляла около 23 тыс. человек, удельный вес 0,7%, в 2010 г. соответственно около 67 тыс. человек, 2,0%. Миграционно активны представители таких центральноазиатских народов, как киргизы, таджики, узбеки. По данным Всесоюзной переписи 1989 г., на территории области проживали 5990 граждан перечисленных национальностей, а их совокупный удельный вес в населении составлял 0,18%. По данным Всероссийской переписи 2010 г., данная группа населения составила 21176 чел., удельный вес 0,66%.
Таким образом, численность представителей трех наиболее миграционно активных центральноазиатских народов в составе населения Самарской области за 21 год возросла в 3,5 раза, а удельный вес в 3,7 раза1.
Мигранты активно используют различные индивидуальные и коллективные способы приспособления, ресурсы различных диаспорных институций. Так, в рамках проекта «Общины выходцев из Закавказья в Самарской области: изучение опыта социокультурной интеграции (на примере армян, азербайджанцев, грузин)» Мухаметшина Наталья Семеновна, доктор политических наук, профессор, кафедра философии.
было установлено, что подавляющее большинство опрошенных не только знают о существовании общественных национально-культурных организаций и поддерживают с ними контакты, но и позитивно оценивают их деятельность и поддержку в различных жизненных ситуациях2.
В ходе реализации проекта «Изучение феномена социокультурной интеграции мигрантов из государств Центральной Азии в Самарской области» в целом подтвердилась гипотеза об использовании в целях приспособления к новым условиям жизни ресурсов различных диаспор-ных институций. В частности, в план стандартизированного интервью были включены вопросы о деятельности общественных национальнокультурных организаций. Такие организации образованы выходцами из всех государств Центральной Азии, в том числе из тех, которые были включены в исследование (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). Например, это «Узбекская община», «Узбекский национально-культурный центр «Алишер Навои»», благотворительный фонд «Помощь киргизскому народу «Манас -Ата»», региональная организация таджикистанцев «Пайванд – Единство»3.
Опрашивались проживающие в Самарской области и по формальному признаку интегрированные в принимающий социум (наличие российского гражданства) этнические киргизы, таджики, узбеки. В ходе интервью выявлено, что из 50 опрошенных киргизов 27 человек (54%) знают о деятельности киргизских общественных организаций. Среди 50 опрошенных таджиков знают о деятельности таджикских общественных организаций 11 человек (22%). Среди такого же количества опрошенных узбеков знают о деятельности узбекских общественных организаций 27 человек (55%). Свыше четверти респондентов-киргизов (14 человек, 25%) счи- тают, что киргизские общественные организации активно участвуют в жизни общины и оказывают необходимую помощь. Почти четверть (11 человек, 22%) отметили, что общественники стараются оказывать помощь, но активной поддержки люди не ощущают. Не согласился с такой позитивной оценкой деятельности киргизских национально-культурных организаций один из опрошенных, однако почти половина респондентов не смогли определиться с оценкой (21 человек, 46%). Среди принявших участие в опросе таджиков каждый второй также затруднился как-то оценить деятельность национальных общественных организаций (25 человек, 50%). Голоса позитивно и негативно оценивающих деятельность таджикских национально-культурных организаций разделились следующим образом: позитивно – 18 респондентов, негативно – 6 респондентов. При этом отметивших, что общественные организации активно участвуют в жизни общины и оказывают необходимую помощь, почти вдвое больше, чем тех, кто более скромно оценивает деятельность общественников («стараются оказывать помощь, но активной поддержки люди не ощущают»): соответственно 11 и 6 человек. Позитивную оценку получила деятельность узбекских общественных национально-культурных организаций: из 50 опрошенных этнических узбеков 19 считают, что общественные организации активно участвуют в жизни общины, и 11 отметили, что общественники стараются оказывать посильную помощь (30 человек, 60%). Негативную оценку дали 4 респондента, 16 не смогли определить свое мнение.
Таким образом, среди опрошенных представителей центральноазиатских этносов от одной четверти (этнические таджики) до половины (этнические киргизы, узбеки) интересуются деятельностью соответствующих общественных национально-культурных организаций. Смогли оценить эту деятельность примерно половина граждан киргизской и таджикской национальности, две трети граждан узбекской национальности. В целом, за редким исключением, деятельность национально-культурных организаций оценивается позитивно, что позволяет отметить их востребованность значительной частью уже имеющими российское гражданство выходцами из центральноазиатских стран.
Часть участвующих в опросе представителей центральноазиатских этносов оказались акти- вистами национально-культурных организаций: среди респондентов-узбеков таких пятеро, среди респондентов-киргизов – четверо, среди опрошенных таджиков активистов не обнаружено. Посещают мероприятия, которые проводят национальные общественники, также сравнительно немногие: 10 респондентов киргизской национальности, 11 – узбекской, 4 – таджикской. Выборка исследования не предполагала включение в опрос респондентов, каким-либо образом связанных с общественными национальнокультурными организациями, поэтому активисты и пассивные участники данных организаций оказались среди респондентов случайно.
Обращает на себя внимание и тот факт, что информированность о существовании и деятельности национально-культурных организаций значительно превосходит реальное участие в их деятельности. Личный опыт наблюдений позволяет отметить, что мероприятия национально-культурных организаций, межнациональные праздники, как правило, многолюдны. Полагаем, что по мере накопления интеграционных практик, социального капитала потребность в поддержке со стороны «своих» общественных организаций ослабевает. С другой стороны, «новожители», имеющие сравнительно небольшой опыт проживания в конкретном российском регионе, вынуждены тратить больше времени и усилий для обустройства на новом месте. Соответственно меньше возможностей принимать участие в общественной жизни диаспоры. Данные о сроках проживания респондентов в Самарской области не выявили корреляции с их участием в деятельности национально-культурных организаций (табл. 1).
Значительная часть участников опроса отметили положительное влияние деятельности национально-культурных организаций на такие процессы, как преодоление социокультурного дискомфорта, межэтническая напряженность, социальная адаптация. Многие согласились с положительной оценкой роли этих организаций в решении различных жизненных проблем (табл. 2).
Негативная оценка деятельности национально-культурных организаций отмечена всего в четырех случаях, и только среди этнических киргизов и узбеков (табл. 3).
Для подавляющего большинства участников опроса оценить деятельность национально-культурных организаций оказалось сложно (табл. 4).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Сколько лет Вы проживаете в Самаре?» (число ответивших, проценты)
|
варианты ответов |
этнические киргизы |
этнические таджики |
этнические узбеки |
|
Более 10 лет |
29 чел., 58% |
20 чел., 40% |
17 чел., 34% |
|
5-10 лет |
14 чел., 28% |
19 чел., 38% |
7 чел., 14% |
|
Менее 5 лет |
7 чел., 14% |
11 чел., 22% |
26 чел., 52% |
Таблица 2. Позитивная оценка направлений деятельности национально-культурных организаций (число ответивших, проценты)
|
утверждения |
этнические киргизы |
этнические таджики |
этнические узбеки |
|
Общественные организации помогают преодолевать социокультурный дискомфорт |
19 чел., 38% |
10 чел., 20% |
35 чел., 70% |
|
Общественные организации помогают снижать межэтническую напряженность |
19 чел., 38% |
2 чел., 4% |
35 чел., 70% |
|
Общественные организации помогают адаптироваться в обществе |
18 чел., 36% |
9 чел., 18% |
35 чел., 70% |
|
Общественные организации помогают решать проблемы |
20 чел., 40% |
4 чел., 8% |
35 чел., 70% |
Таблица 3. Негативная оценка направлений деятельности национально-культурных организаций
|
утверждения |
этнические киргизы |
этнические таджики |
этнические узбеки |
|
Общественные организации не помогают преодолевать социокультурный дискомфорт |
1 чел., 2% |
^— |
1 чел., 2%() |
|
Общественные организации не помогают снижать межэтническую напряженность |
1 чел., 2% |
^— |
1 чел., 2% |
|
Общественные организации не помогают адаптироваться в обществе |
^— |
^— |
^— |
|
Общественные организации не помогают решать проблемы |
^— |
^— |
^— |
Таблица 4. Оценка направлений деятельности национально-культурных организаций Затруднились ответить
|
утверждения |
этнические киргизы |
этнические таджики |
этнические узбеки |
|
Общественные организации помогают преодолевать социокультурный дискомфорт |
30 чел., 60% |
40 чел., 80% |
14 чел., 28% |
|
Общественные организации помогают снижать межэтническую напряженность |
30 чел., 60% |
48 чел., 96% |
14 чел., 28% |
|
Общественные организации помогают адаптироваться в обществе |
32 чел., 64% |
41 чел., 82% |
15 чел., 30% |
|
Общественные организации помогают решать проблемы |
30 чел., 60% |
46 чел., 92% |
15 чел., 30% |
Исключение представляют ответы респондентов-узбеков, более двух третьих (70%) которых дали позитивную оценку и менее одной трети затруднились определиться. В группе респондентов-киргизов преобладают затруднившиеся с ответом (60%), давших позитивную оценку – свыше трети (от 36% до 40%). Заметно отличается ситуация в группе респондентов-таджиков, для которых оценка деятельности национально-культурной организации оказалась сложной задачей: от 80% до 96% затруднились это сделать. В этой группе отмечена низкая информированность о деятельности таджикской национально-культурной организации: знает о ее существовании каждый пятый из участвующих в опросе, соответственно четверо из пяти не знают. Тогда как среди респондентов-киргизов и респондентов-узбеков информирован каждый второй.
Оценка деятельности национально-культурных организаций, как видим, дифференцирована по этническим группам и коррелирует с информированностью и включенностью респондентов в общественную жизнь диаспор. Более информированные и более включенные в общественную жизнь этнические узбеки и киргизы чаще давали позитивную оценку, чем этнические таджики. Полагаем, что на оценку повлиял личный опыт либо опыт родственников, земляков, обратившихся в общественные национально-культурные организации.
Социальные практики, сложившиеся в принимающих сообществах, в целом доминирующая культура оказывают давление на инокультурных «новожителей» (культурно отличимых мигрантов), которые вынуждены их осваивать, приспосабливать, включать в жизненное пространство. Изучение процессов приспособления инокультурных мигрантов в принимающей социокультурной среде показывает, что мигрантские общины и агрегации воспроизводят и собственный этнокультурный опыт. Такой вывод основывается как на результатах наших проектов, так и полученных другими ис-следователями4.
Результаты опроса свидетельствуют о функциональности этнической культуры. Так, две трети респондентов-киргизов, четверть респондентов-узбеков, три четверти респондентов-таджиков отметили, что в интерьере их дома либо квартиры присутствуют элементы этнического стиля. Чаще всего все участники опроса указывают, что это ковры и посуда. Все респонденты знают блюда национальной кухни, большинство сами умеют их готовить: 38 респондентов-киргизов (76%), 22 респондента-узбека (44%), 45 респондентов-таджиков (90%). Судя по результатам опросов, для подавляющего большинства киргизов и таджиков, принимавших участие в опросе, национальные блюда сохраняют существенную часть рациона. Несколько меньшее значение имеют блюда национальной кухни в рационе питания узбеков. Почти каждый день готовят национальные блюда 35 (70%) киргизов, столько же таджиков, 19 (38%) узбеков. В остальных семьях национальные блюда готовят 2-3 раза в месяц либо по праздникам. Самые распространенные блюда в киргизских семьях – плов, бешбармак, баурсак; в узбекских – плов, манты, шорпо; в таджикских – плов, шорпа, курутоб.
Языковые практики также демонстрируют функциональность этнокультуры. Практически все наши респонденты отметили, что с родственниками из других российских регионов и проживающими на родине они общаются на родном языке. Так, 47 респондентов-киргизов (97% от числа опрошенных) общаются с родней на киргизском языке, а трое на русском. Среди респондентов-таджиков только четверо не используют таджикский язык при общении с родственниками. В этих случаях они предпочитают русский (3 респондента) либо узбекский (1 респондент). Все 50 участвующих в опросе этнических узбеков при общении с родственниками используют узбекский язык. В целом из 150 опрошенных представителей центральноазиатских народов 143 используют родные языки. При этом, будучи гражданами России, все респонденты владеют русским языком и пользуются им в своей повседневной жизни.
Зафиксированная в ходе опроса функциональность этнической культуры, включая языковые практики, рассматривается в контексте культурного капитала, который в значительной степени «смягчает» вхождение в новую социальную среду5. Однако культурный, в данном варианте – этнокультурный опыт (капитал) может и способствовать, и затруднять процесс интеграции.
Для общения с родственниками большинство используют интернет и телефон. Среди 50 респондентов-киргизов 36 чаще всего пользуются интернетом и 12 – телефоном. Среди респондентов-таджиков соответственно – 28 и 22. Среди респондентов-узбеков предпочитают телефонную связь: чаще всего ее используют 34 участника опроса, 16 предпочитают интернет. В любом случае использование современных средств коммуникации способствует не только поддержанию внутригрупповых связей, но и преодолению психологического и социокультурного дискомфорта.
Как правило, этническая культура, в частности такие ее атрибуты, как пища, одежда, интерьер жилища, функционирует на бытовом уровне, внутри семьи, в общинных связях. С другой стороны, можно отметить демонстрацию атрибутов этнокультуры, обращение к этнокультурным практикам и при контактах с местным населением, которое хотя бы частично включает этот этнокультурный капитал в свою культуру повседневности. Следовательно, интеграция – взаимонаправленный процесс, объективно включающий в свою орбиту обе стороны – как мигрантов («новожителей»), так и местных жителей («старожильческое население»). Вместе с тем все программы и мероприятия, включая Стратегию государственной национальной политики, рассматривают инокультурных мигрантов как объект интеграции.
Список литературы Мигранты из государств Центральной Азии в Самарской области
- [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://demoscope/ru/meekly/ssp/rus_nac (дата обращения 12.09.2018).
- Мухаметшина Н.С., Явкин Н.В. Мигранты из государств Закавказья в Самарской области // Известия СамНЦ РАН. 2016. Т.18. №6. С.224-229
- Агаджанян Л.А., Ягафова Е.А. «Союз армянской молодежи» в структуре армянской диаспоры Самары // Самарский научный вестник. 2017. Т.4. №3. С.197-198.
- [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://www.samddn.ru (дата обращения 11.09.2018).
- Нам И.В. Роль национально-культурных автономий в адаптации/интеграции мигрантов: право и реалии (опыт Томской области) // Государство, Общество и Церковь: миграция и межкультурное многообразие. Ч.2: Материалы науч.-практ. конф. с международным участием. Новосибирск, 2018. С.104-108
- Пружинин А.Ф. Особенности социальной адаптации мигрантов через призму социального и человеческого капитала // Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации: Материалы III Всероссийской науч.-практ. конф. Казань: ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2018. С.406-409.
- Бурдье П. Формы капитала // Электронный журнал. 2002. Т.3. №5. С.60-74 / Пер. М.С. Добряковой. [Электронный ресурс]: Режим доступа URL: https://ecsoc.hce.ru (дата обращения 11.09.2018)