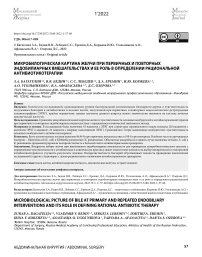Микробиологическая картина желчи при первичных и повторных эндобилиарных вмешательствах и ее роль в определении рациональной антибиотикотерапии
Автор: Багателия З.А., Бедин В.В., Лебедев С.С., Еремин Д.А., Коржева И.Ю., Угольникова А.О., Афанасьева В.А., Озерова Д.С.
Журнал: Московский хирургический журнал @mossj
Рубрика: Абдоминальная хирургия
Статья в выпуске: 1 (79), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Количество исследований, сравнивающих уровни бактериальной контаминации билиарного дерева и чувствительность полученных бактерий к антибиотикам в посевах желчи, полученной при первичных и повторных эндоскопических ретроградных холангиографиях (ЭРХГ), крайне ограничено, однако изучение данного вопроса может значительно повлиять на тактику лечения механической желтухи.Цель исследования. Сравнение микробиологической картины желчи и чувствительности основных возбудителей к антибактериальной терапии при первичных и повторных эндобилиарных вмешательствах с определением клинической значимости метода.Материалы и методы. В исследование были включены 43 пациента с ЭРХГ при стриктурах терминального отдела холедоха (20 пациентов с наличием ЭРХГ в анамнезе, 23 пациента с впервые выполняемой ЭРХГ). Сравнивались титры выявленных возбудителей, чувствительность основных возбудителей к антибиотикотерапии.Результаты. Всего положительных посевов выявлено 86,96 % при первичных вмешательствах и 100 % при повторных. Наиболее часто встречающиеся бактерии - Esherichia coli (E. coli) и Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae). Облигатные анаэробы ни в одном случае выявлены не были. E. coli и K. pneumoniae продемонстрировали полирезистентость к большей части антибактериальных препаратов.Заключение. Внедрение забора желчи при выполнении эндобилиарных вмешательств для проведения микробиологического анализа с определением чувствительности к антибиотикам в клиническую практику может значительно повлиять на выбор эмпирической и этиотропной антибиотикотерапии и улучшить результаты лечения. Полирезистентность бактерий обусловливает важность проведения аналогичных исследований в других стационарах с целью рационального назначения антибактериальных препаратов.
Посев желчи, антибиотикорезистентность, механическая желтуха, острый холангит
Короткий адрес: https://sciup.org/142234539
IDR: 142234539 | УДК: 006.617-089
Текст научной статьи Микробиологическая картина желчи при первичных и повторных эндобилиарных вмешательствах и ее роль в определении рациональной антибиотикотерапии
В нормальных физиологических условиях желчные протоки человека стерильны, что обеспечивается рядом факторов, таких как: сохранная функция сфинктера Одди, антеградный ток желчи со стороны терминальных отделов холедоха, плотные контакты между гепатоцитами и клетками Купфера со стороны портального кровотока, а также наличием солей желчных кислот и иммуноглобулинов А, обеспечивающих оптимальную противомикробную среду [1]. Нарушение одного или нескольких вышеперечисленных факторов приводит к инфицированию желчных протоков – в большинстве случаев ретроградно двенадцатиперстнокишечной флорой, реже гематогенно через портальный венозный кровоток [1, 2]. Развивающийся при этом холангит является тяжелым заболеванием со средней 30-дневной смертностью, по некоторым данным, от 2,6 % до 7,2 % и регулярно встречающимися тяжелыми осложнениями, такими как острый панкреатит (около 7,6 % случаев), абсцессы печени (от 2 % до 2,5 %) и септический шок (не менее 4 % случаев) [3, 4].
Бактериальный посев крови на сегодняшний день является «золотым стандартом» диагностики бактериемии и сепсиса, в том числе, при остром холангите, однако уровень обнаружения бактериальных патогенов в культуре крови составляет, по данным ряда авторов, от 8 до 40 % и в значительной степени зависит от наличия возможности соблюдения всех условий забора крови и других факторов. Все это обусловливает необходимость поиска методов диагностики, обладающих более высокой чувствительностью [1, 2, 3, 5, 6, 7].
При этом по данным ряда публикаций количество положительных культур желчи, полученных при проведении РХПГ, составляет 68–97 % при клинико-лабораторной картине острого холангита, а характер полученной микрофлоры позволяет сделать заключение о высокой вероятности получения пригодных для посева образцов желчи [1, 2, 8]. Однако количество исследований, сравнивающих уровни бактериальной контаминации билиарного дерева и чувствительность полученных бактерий к антибиотикам при первичных и повторных ЭРХПГ, крайне ограничено, в то время как вероятность значительных различий по данным факторам в обеих группах достаточно высока вследствие нарушения в результате первичного вмешательства ряда факторов, профилактирующих инфицирование желчевыводящих путей, а также риска обсеменения больничной микрофлорой. Сравнение микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам при первичных и повторных ЭРХПГ и послужило целью нашего исследования.
Материалы и методы
Характеристика групп пациентов
Все пациенты были разделены на 2 группы. Основную группу составили 20 пациентов (5 мужчин, 15 женщин) с наличием в анамнезе ранее выполненной ЭРХПГ, у которых производился забор желчи при повторном вмешательстве по поводу рецидива механической желтухи различной этиологии. Средний возраст в группе составил 68,2 года (от 37 до 87 лет). Причинами билиарной гипертензии в 15 случаях были доброкачественные заболевания (10 пациентов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ), хроническим калькулезным холециститом, осложненным холедохолитиазом – в 9 случаях сложным, не разрешенным при первичном вмешательстве, и в 1 случае рецидивом холедохолитиаза, полностью разрешенного ранее; 3 пациента со стриктурой терминального отдела холедоха (ТОХ) доброкачественной этиологии и 2 пациента с хроническим калькулезным панкреатитом с преимущественным поражением головки поджелудочной железы (ПЖ) и деформацией ТОХ с нарушением проходимости. В 5 случаях билиарная гипертензия злокачественной этиологии была обусловлена опухолью головки ПЖ (4 пациента) и опухолью ТОХ (1 пациент). У 18 пациентов на момент проведения исследуемого вмешательства были установлены билиодуоденальные стенты (во всех случаях пластиковые). Из двух пациентов без ранее проведенного стентирования билиарного дерева одному ранее была выполнена литоэкстракция и показаний к стентированию холедоха не было, у второй пациентки с опухолью головки ПЖ в другой клинике была проведена ЭРХПГ с эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ), выставлены показания к стентированию, однако попытки его проведения без результата, в связи с чем пациентка переведена в ГКБ им. С.П. Боткина, где с техническими сложностями удалось установить стент.
В группу контроля вошли 23 пациента (5 мужчин, 18 женщин), которым была проведена первичная ЭРХПГ без ранее перенесенных вмешательств на органах гепатобилиарной системы. Средний возраст составил 65,9 лет (от 43 до 87 лет). Среди случаев билиарной гипертензии, обусловленной доброкачественной этиологией (общим количеством 15 случаев) у 12 пациентов была выявлена ЖКБ, хронический калькулезный холецистит, осложненный холедохолитиазом, а у 3 пациентов – стриктура ТОХ доброкачественной этиологии. Среди случаев злокачественной этиологии билиарной гипертензии у 7 пациентов выявлена опухоль ПЖ, а у 1 – колоректальный рак с метастатическим поражением печени и лимфатических узлов (ЛУ) гепатодуоденальной связки и формированием инфильтрата с вовлечением в процесс холедоха и его деформацией.
При оценке однородности групп по полу, возрасту, доброкачественной либо злокачественной этиологии заболеваний и диагнозу статистически значимых различий выявлено не было (табл. 1).
Забор желчи
Операции проводились эндоскопической системой EVIS EXERA III компании Olympus (Япония). Обработка видеоду-оденоскопов проводилась путем трехуровневой дезинфекции (дезинфекция высокого уровня – ДВУ) с предварительной очисткой каналов раствором аминосепта 0,25 %, промыванием каналов устройством SCOPE BUDDY и последующей обработкой дуоденоскопа при помощи репроцессора OER-AW компании Olympus (Япония). Хранение видеодуоденоскопов осуществлялось в шкафах для эндоскопов Эндокаб компании Bandeq (Россия) в течение не более 72 часов. Забор желчи проводился сразу после канюляции холедоха и проведения аспирационной пробы путем аспирации желчи в шприц объемом 20 мл через канюляционный катетер, при этом общий объем материала для посева составил от 5 мл до 20 мл в зависимости от технической доступности. Забор первой порции желчи в отдельный шприц не производился. Шприц с материалом для посева сразу после отсоединения от канюляционного катетера закрывался стерильной иглой с колпачком и доставлялся в лабораторию в течение не более 1 часа с момента забора. Собранный материал исследовался на аэробную и облигатно-анаэробную флору.
Таблица 1
Оценка однородности групп
Table 1
Assessment of group homogeneity
|
Признак Sign |
Основная группа (повторные вмешательства), n=20 Main group (reinterventions) |
Группа контроля (первичные вмешательства), n=23 Control group (primary interventions) |
p |
|
Пол: муж/жен Gender: male/female |
5/15 |
5/18 |
0,80 |
|
Средний возраст, лет Average age, years |
68,2 (от 37 до 87 лет) (from 37 to 87 years old) |
65,9 (от 43 до 87 лет) (from 43 to 87 years old) |
0,43 |
|
Доброкач/злокач патология Benign / malignant pathology |
15/5 |
15/8 |
0,49 |
|
Диагноз: Diagnosis: |
0,44 |
||
|
ЖКБ, холедохолитиаз cholelithiasis, choledocholithiasis |
10 |
12 |
|
|
Стриктура ТОХ Stricture of the terminal part of the common bile duct |
3 |
3 |
|
|
Хронический калькулез-ный панкреатит Chronic calculous pancreatitis |
2 |
0 |
|
|
Опухоль головки ПЖ Tumor of the head of the pancreas |
4 |
7 |
|
|
Опухоль ТОХ Tumor of the terminal part of the common bile duct |
1 |
0 |
|
|
Mts поражение л/у гепа-тодуоденальной связки metastatic lesion of the lymph nodes of the hepatoduodenal ligament |
0 |
1 |
|
Микробиологическое исследование
Посев биоматериала проводился в микробиологической лаборатории ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ в рамках стандартной процедуры бактериологического исследования клинического материала на плотные питательные среды (Bio-Rad, США).
Все изоляты были идентифицированы с использованием метода MALDI-TOF масс-спектрометрии (Microflex-LT, Biotyper System, Bruker Daltonics, Германия).
Определение чувствительности к антимикробным препаратам (АМП) проводилось на автоматическом анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux, Франция) в соответствии с требованиями Европейского комитета по определению чувствительности к АМП (EUCAST, www.eucast.org ). Категории чувствительности изолятов к АМП определяли на основании пограничных значений минимальных подавляющих концентраций (МПК) в соответствии со стандартами EUCAST v.11.0 [9].
Статистический анализ
Для проведения статистического анализа использовалось программное обеспечение SPSS для Windows версии 21.0, США. Статистический анализ проведен при помощи Хи-квадрата Пирсона и U-критерия Манна-Уитни, которые считались статистически значимыми при значении р <0,05.
Результаты
Всего положительных посевов было выявлено 96 % при первичных вмешательствах и 100 % при повторных, однако c учетом потенциального попадания нормофлоры двенадцатиперстной кишки в забираемый материал, а также возможного разброса титров от 10*1 до 10*8 КОЕ/мл, только титры со значением 10*5 КОЕ/мл и более были условно приняты нами за клинически значимые для последующего учета антибиотикорезистент-ности бактерии, продемонстрировавшей данную плотность обсеменения, при подборе антибиотикотерапии. В случае выявления титров 10*1 КОЕ/мл бактерия не рассматривалась как потенциально патогенный возбудитель, при результатах 10*2– 10*4 КОЕ/мл решение об учете антибиотикорезистентности данного микроорганизма при подборе антибактериальной терапии принималось в индивидуальном порядке в зависимости от клинической картины, степени тяжести заболевания, а также потенциального риска развития антибиотикорезистентности к наиболее эффективным препаратам. Положительные посевы с клинически значимыми титрами (10*5 КОЕ/мл и более) в группе первичных вмешательств были выявлены у 5 пациентов (21,74 %), при повторных вмешательствах – у 13 пациентов (65 %). Наиболее часто встречающимися бактериями явились E. coli и K. pneumoniae. Всего E. coli высеялась в 30 % при первичных вмешательствах и 85 % при повторных со статистически значимой разницей между группами (р=0,002). Клинически значимые титры E. coli также были значимо выше в повторной группе в сравнении с первичной (13 % при первичных вмешательствах против 50 % при повторных, р=0,008). Результаты посевов K. pneumoniae были аналогичны: всего положительных посевов 22 % при первичных и 65 % при повторных вмешательствах (разница статистически значима, р=0,004), а клинически значимых титров – 9 % и 45 % соответственно со статистически значимым преобладанием в основной группе повторных вмешательств (р=0,006). Помимо E. coli и K. pneumoniae было высеяно 15 бактерий (Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Enterococcus avium, Klebsiella oxytoca, Acinetobacter junii, Acinetobacter species, Staphylococcus aureus, Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus infantis, Pseudomonas spp, Stenotrophomonas maltophilia, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae), однако все они были выявлены у небольшого числа пациентов без статистически значимой разницы по общему количеству положительных посевов каждой из бактерий между группами (табл. 2). При этом ряд бактерий, встречающихся в желудочно-кишечном тракте либо составляющих нормофлору кишечника человека (Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Klebsiella oxytoca, Acinetobacter species, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis), был высеян в клинически значимых титрах. Также клинически значимые титры показала синегнойная палочка в обоих случаях положительного посева в группе повторных вмешательств.
В группе первичных вмешательств 12 из 22 положительных посевов (54,55 %) были представлены монокультурой, преимущественно с низкими титрами (в 8 случаях титр составил 10*1 КОЕ/мл, в 3 – от 10*2 КОЕ/мл до 10*4 КОЕ/ мл и лишь в 1 случае больше 10*5 КОЕ/мл в случае с высеянной Acinetobacter species). В оставшихся 10 посевах комбинации в большинстве случаев состояли из E. сoli либо K. pneumoniae в сочетании с другими бактериями. Максимальное число бактерий в комбинации составило 6 видов, однако все бактерии показали титр 10*1 КОЕ/мл, что может говорить о заносе нормофлоры двенадцатиперстной кишки в данный биоматериал.
При повторных вмешательствах монокультура была получена в 4 из 20 положительных посевов (20 %), из которых лишь в 1 случае титр был менее 10*5 КОЕ/мл. Остальные 3 случая были представлены E. coli в 10*6 КОЕ/мл, E. сoli в 10*7 КОЕ/мл и Pseudomonas aeruginosa в 10*6 КОЕ/мл, которая также была нами рассмотрена как патогенный возбудитель. Комбинации в остальных 16 посевах также были представлены преимущественно E. сoli и/или K. pneumoniae с различными другими видами. Максимальное число бактерий в комбинации показало 4 вида, которые включали в себя E. сoli и K. pneumoniae.
В исследованиях на облигатно-анаэробные бактерии облигатных анаэробов выявлено не было ни в основной, ни в контрольной группах.
Таблица 2
Бактериальная флора при первичных и повторных вмешательствах (бежевым цветом выделены посевы с клинически значимыми титрами)
Table 2
Bacterial flora during primary and repeated interventions (crops with clinically significant titers are highlighted in beige)
|
Бактерия Bacterium |
Первичные вмешательства, n=23 Primary Interventions |
Повторные вмешательства, n=20 Re-interventions |
р |
|||
|
Основная флора Main flora |
всего total |
>=10*5 КОЕ/мл cfu/ml |
всего total |
>=10*5 КОЕ/ мл cfu/ml |
всего total |
>=10*5 КОЕ/мл cfu/ml |
|
Escherichia coli |
9 (30%) |
3 (13%) |
17 (85%) |
10 (50%) |
0,002 |
0,008 |
|
Klebsiella pneumoniae |
5 (22%) |
2 (9%) |
13 (65%) |
9 (45%) |
0,004 |
0,006 |
|
Редкая флора Rare flora |
всего total |
>=10*5 КОЕ/мл cfu/ml |
всего total |
>=10*5 КОЕ/ мл cfu/ml |
всего total |
|
|
Enterococcus faecium |
2 |
1 |
6 |
3 |
0,07 |
|
|
Pseudomonas aeruginosa |
4 |
0 |
2 |
2 |
0,49 |
|
|
Enterococcus faecalis |
2 |
1 |
2 |
1 |
0,88 |
|
|
Enterococcus avium |
1 |
0 |
0 |
0,35 |
||
|
Klebsiella oxytoca |
2 |
1 |
1 |
0 |
0,64 |
|
|
Acinetobacter junii |
0 |
1 |
0 |
0,28 |
||
|
Acinetobacter species |
3 |
1 |
0 |
0,09 |
||
|
Staphylococcus aureus |
0 |
1 |
0 |
0,28 |
||
|
Morganella morganii |
0 |
1 |
0 |
0,28 |
||
|
Streptococcus infantis |
1 |
0 |
0 |
0,35 |
||
|
Pseudomonas spp |
1 |
0 |
0 |
0,35 |
||
|
Stenotrophomonas maltophilia |
2 |
0 |
1 |
0 |
0,64 |
|
|
Citrobacter freundii |
1 |
1 |
0 |
0,35 |
||
|
Proteus mirabilis |
1 |
0 |
1 |
1 |
0,92 |
|
|
Enterobacter cloacae |
2 |
0 |
0 |
0,18 |
||
Обе группы продемонстрировали низкую чувствительность к антибиотикам как в случае E. coli, так и K. pneumoniae. Условно резистентость бактерий к определенным антибиотикам равная 30 % и более была принята нами за высокую, так как у каждого третьего пациента данный антибиотик не будет эффективен. Результаты проведенного анализа уровня резистентности E. coli см в таблице 3, K. pneumoniae – в таблице 4. Статистический анализ резистентности других бактерий к антибиотикам не проводился ввиду низкого показателя высеваемости и, как следствие, малочисленности групп сравнения.
В обеих группа была выявлена высокая резистентность к пенициллинам, в том числе защищенным (ампициллин, амоксициллин, ампициллин/сульбактам, амоксициллин/ клавуланат). Единственный из рассмотренных антибиотиков пенициллинового ряда, показавший резистентность менее 30 % – пиперациллин/тазобактам в группе первичных вмешательств (резистентность 14 %), однако в группе повторных вмешательств его резистентность составила уже 54 % (без статистически значимой разницы между группами, р=0,09).
Таблица 3
Резистентность ( R) Escherichia coli к антибактериальной терапии (ТОЛЬКО ДЛЯ ГКБ ИМ. С.П.БОТКИНА). Показатели указаны для первичных и повторных вмешательств соответственно
Table 3
Resistance (R) of Escherichia coli to antibiotic therapy (ONLY FOR BOTKIN HOSPITAL). Rates are for primary interventions and re-interventions, respectively
|
Высокая резистентность к АБ в обеих группах High antibiotic resistance in both groups |
Резистентность к АБ выше при повторных вмешательствах Antibiotic resistance is higher with re-interventions |
Низкая резистентость к АБ в обеих группах Low antibiotic resistance in both groups |
|||
|
Антибиотик Antibiotic |
R (%) |
Антибиотик Antibiotic |
R (%) |
Антибиотик Antibiotic |
R (%) |
|
Ампициллин Ampicillin |
75% и 94% (р=0,17) |
Цефтазидим Ceftazidime |
25% и 77% (р=0,01) |
Амикацин Amikacin |
22% и 24% (р=0,94) |
|
Ампициллин/ сульбактам Ampicillin/sulbactam |
40% и 85% (р=0,06) |
Цефтриаксон Ceftriaxone |
29% и 77% (р=0,04) |
Имипенем Imipenem |
11% и 7% (р=0,7) |
|
Амоксициллин Amoxicillin |
75% и 100% (р=0,24) |
Меропенем Meropenem |
20% и 0% (р=0,11) |
||
|
Амоксициллин/ клавуланат Amoxicillin / clavulanate |
71% и 81% (р=0,6) |
Резистентность к АБ выше при повторных вмешательствах, но статистически незначима Antibiotic resistance is higher with re-interventions, but not statistically significant |
Эртапенем Ertapenem |
11% и 19% (р=0,62) |
|
|
Гентамицин Gentamicin |
33% и 47% (р=0,5) |
Пиперациллин/ тазобактам Piperacillin / tazobactam |
14% и 54% (р=0,09) |
||
|
Тобрамицин Tobramycin |
40% и 40% (р=1,0) |
Цефтолозан/ тазобактам Ceftolosan/ tazobactam |
0% и 33% (р=0,18) |
||
|
Цефазолин Cefazolin |
80% и 88% (р=0,64) |
||||
|
Цефепим Сefepime |
44% и 77% (р=0,1) |
||||
|
Ципрофлоксацин Ciprofloxacin |
60% и 79% (р=0,42) |
Резистентность выше при первичных вмешательствах Resistance is higher with primary interventions |
|||
|
Левофлоксацин Levofloxacin |
67% и 79% (р=0,57) |
Тигециклин Tigecycline |
43% и 8% (р=0,06) |
||
|
Моксифлоксацин Moxifloxacin |
80% и 100% (р=0,29) |
||||
|
Норфлоксацин Norfloxacin |
75% и 100% (р=0,24) |
||||
|
Офлоксацин Ofloxacin |
75% и 100% (р=0,24) |
||||
|
Триметоприм/ сульфаметоксазол Trimethoprim/sulfamethoxazole |
56% и 53% (р=0,9) |
||||
|
Налидиксовая кислота Nalidixic acid |
75% и 100% (р=0,24) |
||||
|
Цефуроксим Cefuroxime |
38% и 82% (р=0,03) |
||||
Таблица 4
Резистентность( R) Klebsiella pneumoniae к антибактериальной терапии (ТОЛЬКО ДЛЯ ГКБ ИМ. С.П.БОТКИНА). Показатели указаны для первичных и повторных вмешательств соответственно
Table 4
Resistance (R) of Klebsiella pneumoniae to antibiotic therapy (ONLY FOR BOTKIN HOSPITAL). Rates are for primary interventions and re-interventions, respectively
|
Высокая резистентность к АБ в обеих группах High antibiotic resistance in both groups |
Резистентность к АБ выше при повторных вмешательствах Antibiotic resistance is higher with re-interventions |
Низкая резистентость к АБ в обеих группах Low antibiotic resistance in both groups |
|||
|
Антибиотик Antibiotic |
R (%) |
Антибиотик Antibiotic |
R (%) |
Антибиотик Antibiotic |
R (%) |
|
Ампициллин Ampicillin |
100% и 100% (р= --- ) |
Меропенем Meropenem |
0% и 38% (р=0,21) |
Амикацин Amikacin |
20% и 23% (р=0,89) |
|
Ампициллин/ сульбактам Ampicillin/sulbactam |
80% и 91% (р=0,54) |
||||
|
Амоксициллин Amoxicillin |
100% и 100% (р= ---) |
||||
|
Амоксициллин/ клавуланат Amoxicillin / clavulanate |
100% и 92% (р=0,57) |
||||
|
Тикарциллин/ клавуланат Ticarcillin / clavulanate |
100% и 100% (р= --- ) |
||||
|
Пиперациллин/ тазобактам Piperacillin / tazobactam |
67% и 78% (р=0,7) |
||||
|
Гентамицин Gentamicin |
60% и 54% (р=0,81) |
||||
|
Тобрамицин Tobramycin |
100% и 100% (р= --- ) |
||||
|
Цефтазидим Ceftazidime |
80% и 83% (р=0,87) |
||||
|
Цефтриаксон Ceftriaxone |
80% и 83% (р=0,87) |
||||
|
Цефуроксим Cefuroxime |
80% и 83% (р=0,87) |
||||
|
Цефазолин Cefazolin |
80% и 83% (р=0,87) |
||||
|
Цефепим Cefepime |
80% и 85% (р=0,81) |
||||
|
Цефтолазан/ тазобактам Ceftolazan / tazobactam |
67% и 63% (р=0,9) |
||||
|
Ципрофлоксацин Ciprofloxacin |
75% и 80% (р=0,84) |
||||
|
Левофлоксацин Levofloxacin |
75% и 82% (р=0,77) |
||||
|
Моксифлоксацин Moxifloxacin |
100% и 100% (р= --- ) |
||||
Продолжение Таблицы 4
|
Норфлоксацин Norfloxacin |
100% и 100% (р= --- ) |
||||
|
Офлоксацин Ofloxacin |
100% и 100% (р= --- ) |
||||
|
Налидиксовая кислота Nalidixic acid |
100% и 100% (р= --- ) |
||||
|
Имипенем Imipenem |
40% и 58% (р=0,49) |
||||
|
Эртапенем Ertapenem |
60% и 58% (р=0,95) |
||||
|
Триметоприм/ сульфаметоксазол Trimethoprim/sulfamethoxazole |
60% и 39% (р=0,41) |
E. coli.
Резистентность к группе цефалоспоринов также продемонстрировала высокие показатели: выше 30 % была резистентность в обеих группах к цефалоспорину I поколения (цефазолин), II поколения (цефуроксим), а также 4 поколения (цефепим). К цефалоспоринам III поколения резистентность в группе повторных вмешательств была значимо выше (цефтазидим 77 % против 25 % при первичных вмешательствах, р=0,01, цефтриаксон 77 % против 29 % при первичных вмешательствах. Р=0,04), однако результаты резистентности в группе первичных вмешательств также приближаются к 30 %. Единственным антибиотиком группы цефалоспоринов, показавшим низкую резистентность при первичных вмешательствах, явился защищенный ингибитором бета-лактамазы цефтолозан/тазобактам (резистентность 0 %), но даже у него показатель резистентности в группе повторных вмешательств выше 30 % (хотя и без статистически значимой разницы между группами, р=0,18).
При этом проведенный анализ на выявление бета-лактамаз расширенного спектра действия (БЛРС) выявил 2 положительных результата в группе первичных вмешательств (22,22 %) и 9 положительных результатов в группе повторных (52,04 %) (р=0,13).
Группа хинолонов показала резистентность к E. coli выше 30% в обеих группах во всех поколениях от нефторированной налидиксовой кислоты I поколения до фторхинолона IV поколения моксифлоксацина, причем к хинолонам I, II и IV поколения резистентность при повторных вмешательствах составила 100 %, а к фторхинолону III поколения 79 %.
Также к противомикробному синтетическому препарату широкого спектра действия триметоприму/сульфаметоксазолу резистентность в обеих группах составила более 50 %.
В группе аминогликозидов низкая резистентность выявлена только у амикацина (22 % и 24 % для первичных и повторных вмешательств соответственно). Гентамицин и тобрамицин в обеих группах продемонстрировали резистентность выше 30%.
Зато карбапенемы явились единственной группой из рассмотренных антибиотиков, показавших низкую резистентность для всех проверенных препаратов (имипенем, меропенем, эр-тапенем) с показателями резистентности во всех случаях не более 20%, однако целесообразно также определение маркеров карбапенемаз, которое в нашем исследовании не проводилось.
И наконец, парадоксальные результаты с большей резистентностью при первичных вмешательствах оказались в группе тетрациклинов (тигециклин 43% резистентности при первичных вмешательствах, 8 % – при повторных, без статистически значимой разницы, р=0,62), что требует дальнейших исследований на выборках большего объема.
K. pneumoniae.
Резистентность K. pneumoniae к антибиотикам пенициллинового ряда оказалась крайне высокой в обеих группах – минимальный показатель резистентности составил 67 % для защищенного ингибитором бета-лактамазы тазобактамом пиперациллина (только в группе первичных вмешательств, при повторных резистентость к пиперациллину/тазобактаму составила уже 78 %), а для большинства проверенных антибиотиков данной группы, включая защищенные амоксициллин/ клавуланат и тикарциллин/клавуланат, резистентость была выше 90 % (преимущественно 100 %).
Аналогичные результаты показала группа цефалоспоринов: минимальный процент резистентности выявлен у защищенного ингибитором бетта-лактамазы цефтолазана/тазобактама (67 % в группе первичных вмешательств и 63 % в группе повторных), в то время как ко всем проверенным антибиотикам данного ряда (I–IV поколений, от цефазолина до цефепима) резистентность составила более 80 %.
Маркеры БЛРС были положительными в 1 случае в группе первичных вмешательств (20 %) и в 5 случаях в группе повторных (38,46 %) (р=0,46).
В группе хинолонов ни один из проверенных антибиотиков (от нефторированной налидиксовой кислоты до фторхино-лона 4 поколения моксифлоксацина) не продемонстрировал уровень резистентности менее 75% как при первичных, так и при повторных вмешательствах.
Триметоприм/сульфаметоксазол показал парадоксальный результат: 60 % резистентости в группе первичных вмешательств и 39 % в группе повторных, но без статистически значимой разницы между группами (р=0,41).
Результаты в группе аминогликозидов схожи с показателями резистентости данной группы к E.coli: низкая резистентность выявлена только у амикацина (20 % при первичных и 23 % при повторных вмешательствах). К гентамицину резистентность была выше 54 %, а к тобрамицину – 100 % в обеих группах.
Из карбапенемов лишь к меропенему показатели резистентности в группе первичных вмешательств составили 0 %, при этом при повторных вмешательствах резистентность была уже 38 % (хотя и без статистически значимой разницы, р=0,21), а к эртапенему и имипенему выявлена резистентность выше 40% в обеих группах, однако, как и в случае с E. coli, для исключения полирезистентности к карбапенемам необходимо дополнительное определение маркеров карбапенемаз.
Обсуждение
На сегодняшний день забор желчи при выполнении ЭРХПГ не является рутинным способом получения материала для выявления патогенной при острых холангитах микрофлоры, уступая место «золотому стандарту» идентификации бактериемии и сепсиса – посеву культуры крови [2]. Последний, однако, имеет ряд значительных ограничений, в том числе необходимость обеспечения забора крови на высоте лихорадки, в условиях тщательной обработки кожи и всех выполненных требований к процедуре, а частота положительных посевов составляет от 8 до 40% по данным разных авторов [1, 2, 3, 5, 6, 7]. Эти обстоятельства наряду с показателями 30-дневной смертности (2,5–7,2 %) и осложнениями (острый панкреатит – около 7,6 % случаев, абсцессы печени – 2–2,5 %, септический шок – не менее 4 %) острого холангита стимулируют авторов по всему миру искать альтернативные варианты подбора действенной антибактериальной терапии [3, 4].
В мировой литературе встречается ряд публикаций, посвященных посевам желчи, полученных путем забора при ЭРХПГ либо чрескожных чреспеченочных вмешательствах [1, 2, 8, 10, 11]. Методика забора посева при выполнении ЭРХПГ отличается от исследования к исследованию – к примеру, одни авторы используют для забора желчи 2 шприца, из которых в первый набирается несколько первоначальных миллилитров желчи, а в следующий – основной материал для исследования с целью предотвращения потенциальной контаминации образца внебилиарной флорой [1, 2], другие сразу производят забор желчи для исследования [8]. Также алгоритмы проведения посева отличаются по количеству миллилитров забираемой желчи, способу доставки в лабораторию и культивирования (в шприце либо сосудах для культивирования аэробов и анаэробов крови) и ряду других особенностей [1, 2, 8, 10, 11]. Мы применяли забор желчи только в один шприц без предварительного отсева, а также транспортировку в лабораторию непосредственно в шприце, в который был набран материал, с целью максимального упрощения и ускорения алгоритма, однако забирали максимально возможный объем желчи (до 20 мл), сразу после забора изолировали желчь от внешней среды путем закрытия шприца иглой с колпачком и строго выполняли условие транспортировки в лабораторию в течение 1 часа.
При этом полученные нами посевы с одной стороны содержали в ряде случаев низкие титры бактерий, характерных либо встречающихся в нормофлоре кишечника (Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Enterococcus avium, Klebsiella oxytoca, Acinetobacter junii, Acinetobacter species, Staphylococcus aureus, Morganella morganii, Streptococcus infantis, Pseudomonas spp, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae) , что может говорить о заносе их в материал для анализа из двенадцатиперстной кишки, а с другой – некоторые из них продемонстрировали клинически значимые титры, и, с учетом нарушения нормального барьера между холедохом и двенадцатиперстной кишкой, особенно при проведении папиллосфинктеротомии и/или установке билиодуоденального стента, могут быть рассмотрены как потенциально патогенные микроорганизмы с учетом результатов их антибиотикорезистентности при подборе антибактериальной терапии.
Всего положительных посевов при нашем исследовании было 86,96 % при первичных вмешательствах с клинически значимыми титрами у 21,74 % пациентов и 100 % при повторных с клинически значимыми титрами у 65 %, а показатели других авторов составили 68,1 % – 97 % положительных культур желчи с ростом патогенных микробов у 39% – 75,56 % пациентов [1, 2], что демонстрирует значительно более высокие показатели получения патогенных микроорганизмов в сравнении с посевами крови, при которых, по данным ряда публикаций, частота положительных посевов составляет от 8 до 40 % [1, 2, 3, 5, 6, 7].
Бактериальный состав желчи в нашем исследовании близок к результатам других работ: E. coli и бактерии рода Klebsiella (а также род Enterococcus, стоящий в нашем случае на третьем месте по частоте выявления после E. coli и K. pneumoniae) явились одними из наиболее часто встречающихся бактерий в большинстве проанализированных нами исследований [1, 8, 12–14], помимо них некоторые авторы выделяют бактерии родов Enterobacter, Bacteroides, Streptococcus, Staphylococcus [1, 2, 12–14], которые у нас встречались достаточно редко. Синегнойную палочку, как часто встречающийся патогенный возбудитель, отметили только некоторые авторы [12–14]. В нашем исследовании по частоте выявления Pseudomonas aeruginosa заняла четвертое место, но в клинически значимых титрах была высеяна только в группе повторных исследований
(2 случая). При первичных вмешательствах титр Pseudomonas aeruginosa во всех случаях составил всего 10*1 КОЕ/мл, что, однако, может говорить о потенциальной контаминации билиарного дерева внутрибольничной микрофлорой в течение госпитализации и, с учетом высокой способности синегнойной палочки к образованию биопленок [15], о возможном обнаружении ее при повторных вмешательствах в составе биопленок на билиарных стентах и патогенной роли в дисфункциях стентов и последующих эпизодах холангитов – данный вопрос требует дальнейшего изучения, особенно при клинически значимых титрах синегнойной палочки, полученных нами в группе повторных вмешательств.
Отсутствие роста облигатных анаэробов ставит под сомнение необходимость проведения исследования на их выявление при посеве желчи. Ряд авторов, сравнивавших посевы желчи и крови у одних и тех же пациентов, также не выявил ни одного облигатного анаэроба как в культурах желчи, так и крови [2], что, однако, требует дальнейшего изучения.
Особенности роста и чувствительности бактерий к антибиотикам могут значительно отличаться не только в различных регионах мира [8], но, возможно, и в городах одной страны или даже стационарах одного населенного пункта. При этом важность оценки характерной для того или иного стационара микробиологической картины желчи, а также ее чувствительность к антибактериальной терапии потенцируется выявляемыми в проведенных исследованиях бактериями группы «ESKAPE», включающей в себя шесть самых опасных микробов для населения развитых стран (в нашем и ряде других исследований – Enterobacterales, Enterococcus faecium и Pseudomonas aeruginosa) [1, 2, 8, 12–14, 16], риском развития холангита при обтурации стента с необходимостью подбора действенной эмпирической терапии, а также большой вероятностью поступления пациента с дисфункцией билиарного стента в тот же стационар, где была проведена первичная ЭРХПГ, вследствие территориального принципа распределения пациентов с экстренной патологией. Исходя из этого, рекомендации по подбору эмпирической антибиотикотерапии, основанные на одном моногоспитальном исследовании могут повлечь за собой нерациональный выбор антибиотикоте-рапии с последующим неэффективным лечением пациента либо усугублением антибиотикорезистентности некоторых видов бактерий. Введение протоколов взятия посевов желчи с последующим анализом как характерного для конкретного стационара антибиотикоряда, так и уровня чувствительности и резистентности бактерий к основным антибиотикам в данной больнице может позволить избежать подобных осложнений, определить оптимальную в каждом отдельном случае эмпирическую терапию, а также создать общую для каждого города и страны в целом картину антибиотикорезистентности, что может явиться важным шагом для своевременного выявления проблем и определения дальнейшего направления развития данного сектора медицины.
Выводы
На основании проведенного исследования мы можем рекомендовать введение алгоритма забора желчи при ЭРХПГ с целью проведения посева и определения антибиотикочувствитель-ности в стационарах, обеспечивающих высокотехнологическую помощь населению, создания индивидуальной картины анти-биотикорезистентности, разработки оптимальной для данного лечебно-профилактического учреждения эмпирической терапии, а также подбора персонализированной антибиотикотерапии для каждого конкретного пациента с механической желтухой, в особенности, осложненной острым холангитом.
Список литературы Микробиологическая картина желчи при первичных и повторных эндобилиарных вмешательствах и ее роль в определении рациональной антибиотикотерапии
- Chandra S., Klair J., Soota K. et al. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography obtained bile culture can guide antibiotic therapy in acute cholangitis. Digestive Diseases, 2018, № 37(2), рр. 155–160. https://doi.org/10.1159/000493579
- Wang C., Yu H., He J. et al. Comparative analysis of bile culture and blood culture in patients with malignant biliary obstruction complicated with biliary infection. J Cancer Res Ther., 2021, Jul, № 17(3), рр. 726–732. https://doi.org/10.4103/jcrt.JCRT_1705_20
- Sokal A., Sauvanet A., Fantin B. et al. Acute cholangitis: Diagnosis and management. J Visc Surg., 2019, Dec, № 156(6), рр. 515–525. https://doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2019.05.007
- Gomi H., Takada T., Hwang T. et al. Updated comprehensive epidemiology, microbiology, and outcomes among patients with acute cholangitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci., 2017, Jun, № 24(6), рр. 310–318. https://doi.org/10.1002/jhbp.452
- Rhodes A., Evans L., Alhazzani W. et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med., 2017, Mar, № 43(3), рр. 304–377. https://doi.org/10.1007/s00134-017-4683-6
- Fangfang W., Wen X., Leyuan Y. 2418 blood culture pathogenic bacteria distribution and drug resistance analysis. Lab Med., 2015, № 30, рр. 163–166.
- Lamy B., Sundqvist M., Idelevich E. ESCMID Study Group for Bloodstream Infections, Endocarditis and Sepsis (ESGBIES). Bloodstream infections - Standard and progress in pathogen diagnostics. Clin Microbiol Infect., 2020, Feb, № 26(2), рр. 142–150. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.11.017
- Manrai M., Jha A., Singh Shergill S. et al. Microbiology of bile in extrahepatic biliary obstruction: A tropical experience. Indian J Med Microbiol., 2021, Jan, № 39(1), рр. 54–58. https://doi.org/10.1016/j.ijmmb.2020.10.002
- Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам. Рекомендации Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Российской Федерации, январь, 2021.
- Kaya M., Beştaş R., Bacalan F. et al. Microbial profile and antibiotic sensitivity pattern in bile cultures from endoscopic retrograde cholangiog raphy patients. World J Gastroenterol., 2012, Jul 21, № 18(27), рр. 3585–3589. https://doi.org/10.3748/wjg.v18.i27.3585
- Suna N., Yıldız H., Yüksel M. et al. The change in microorganisms reproducing in bile and blood culture and antibiotic susceptibility over the years. Turk J Gastroenterol., 2014, Jun, № 25(3), рр. 284–290. https://doi.org/10.5152/tjg.2014.6253
- Takada T., Strasberg S., Solomkin J. et al. Tokyo Guidelines Revision Committee. TG13: Updated Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci., 2013, Jan, № 20(1), рр. 1–7. https://doi.org/10.1007/s00534-012-0566-y
- Karpel E., Madej A., Bułdak Ł. et al. Bile bacterial flora and its in vitro resistance pattern in patients with acute cholangitis resulting from choledocholithiasis. Scand J Gastroenterol., 2011, Jul, № 46(7–8), рр. 925–930. https://doi.org/10.3109/00365521.2011.560676
- Prabhu T., Chandan C., Sudarsan S. et al. Microflora of gall bladder bile in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Int Surg J., 2018, Jul, № 5(8), рр. 2876–2881. https://doi.org/10.18203/2349-2902.isj20183207
- Al-Dahmoshi H., Al-Obaidi R., Al-Khafaji N. Pseudomonas aeruginosa - Biofilm Formation, Infections and Treatments. December 2020, рр. 1–13. https://doi.org/10.5772/intechopen.95251
- Rice L. Federal funding for the study of antimicrobial resistance in nosocomial pathogens: no ESKAPE. J Infect Dis., 2008, Apr 15, № 197(8), рр. 1079–1081. https://doi.org/10.1086/533452