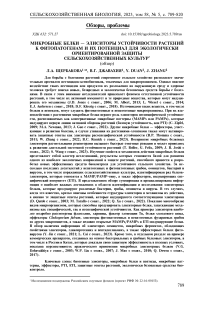Микробные белки - элиситоры устойчивости растений к фитопатогенам и их потенциал для экологически ориентированной защиты сельскохозяйственных культур
Автор: Щербакова Л.А., Джавахия В.Г., Duan Y., Zhang J.
Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology
Рубрика: Обзоры, проблемы
Статья в выпуске: 5 т.58, 2023 года.
Бесплатный доступ
Для борьбы с болезнями растений современное сельское хозяйство располагает значительным арсеналом пестицидов-ксенобиотиков, токсичных для микроорганизмов. Однако опасное воздействие таких пестицидов или продуктов их разложения на окружающую среду и здоровье человека требует поиска новых, безвредных и экологически безопасных средств борьбы с болезнями. В связи с этим внимание исследователей привлекает феномен естественной устойчивости растений, в том числе их активный иммунитет и те природные вещества, которые могут индуцировать его механизмы (J.D. Jones с соавт., 2006; M. Albert, 2013; L. Wiesel с соавт., 2014; E.J. Andersen с соавт., 2018; D.F. Klessig с соавт., 2018). Источниками таких веществ, в том числе белков и пептидов, могут служить фитопатогенные и непатогенные микроорганизмы. При их взаимодействии с растениями микробные белки играют роль элиситоров неспецифической устойчивости, распознаваемых как консервативные микробные паттерны (МАМРs или PAMPs), которые индуцируют первую линию активной обороны растений (базовую устойчивость, или PTI) (C. Zipfel, 2009; M.A. Newman, 2013; J. Guo с соавт., 2022). Другие микробные белки - эффекторы, участвующие в развитии болезни, в случае узнавания их растениями-хозяевами также могут активировать защитные ответы как элиситоры расоспецифической устойчивости (B.P. Thomma с соавт., 2011; W. Zhang с соавт., 2022; B.C. Remick с соавт., 2023). Восприятие микробных белковых элиситоров растительными рецепторами вызывает быстрые ответные реакции и может приводить к развитию длительной системной устойчивости растений (T. Boller, G. Felix, 2009; J. B. Joshi с соавт., 2022; S. Wang с соавт., 2023). Изучение свойств и механизмов действия микробных белков представляет собой кластер исследований, результаты которых становятся базой для развития одного из наиболее экологичных направлений в защите растений, способного привести к разработке новых эффективных средств биоконтроля для устойчивого сельского хозяйства. За несколько последних десятилетий у непатогенных и фитопатогенных грибов, оомицетов, бактерий и вирусов, в том числе поражающих сельскохозяйственные культуры, идентифицирован ряд белков-элиситоров, которые относятся к MAMP/PAMP-типу, а также эффекторов, индуцирующих специфический иммунитет (ETI). В представленном обзоре суммирована и проанализирована информация о наиболее важных достижениях в области идентификации и исследования элиситорных белков, которые продуцируют различные бактерии, грибы, оомицеты и вирусы. В тех случаях, когда это известно, кратко описаны особенности структуры элиситоров и механизмы их действия, а именно те защитные ответы растений, которые индуцируются соответствующими элиситорами (D. Qutob с соавт., 2003; M. Tarallo с соавт., 2022; Q. Xu с соавт., 2022). Показано многообразие видов микроорганизмов, которые способны продуцировать элиситорные белки, запускающие механизмы как специфической, так и неспецифической устойчивости. Как примеры элиситоров наиболее подробно рассмотрены флагеллин, харпины, фактор элонгации Tu, белки холодового шока, эффекторы Cladosporium fulvum , элиситоры фитопатогенных и непатогенных фузариевых грибов из других микромицетов, а также недавно открытые МАМРs/PAMPs и ETI-индуцирующие белки. В обзор включена информация об элиситорах оомицетов, микробных ферментах, обладающих свойствами элиситоров, гликопротеинах и пептидогликанах, а также эффекторных белках фитовирусов (Y. Jin с соавт., 2021; L. Cai с соавт., 2023). Кроме того, в отдельном разделе на примере коммерческих препаратов, созданных на основе бактериальных и грибных белковых элиситоров, в том числе в России и Китае, которые доказали свою защитную эффективность в полевых условиях, показана перспективность практического применения микробных элиситорных белков (V.G. Dzhavakhiya с соавт., 2003; W.P. Liu с соавт., 2007; J. Mao с соавт., 2010; Q. Dewen с соавт., 2017).
Биогенные элиситоры, микробные белки и пептиды, микробные паттерны, эффекторы, рti, защитные ответы растений, экологически безопасные средства биоконтроля
Короткий адрес: https://sciup.org/142239852
IDR: 142239852 | УДК: 632: | DOI: 10.15389/agrobiology.2023.5.789rus
Текст обзорной статьи Микробные белки - элиситоры устойчивости растений к фитопатогенам и их потенциал для экологически ориентированной защиты сельскохозяйственных культур
В условиях интенсивного растениеводства высокие урожаи сельскохозяйственных культур невозможно обеспечить без усилий, направленных на борьбу с болезнями растений. В настоящее время существуют разнообразные возможности защиты урожая (создание устойчивых сортов, обработка химическими пестицидами, биоконтроль фитопатогенов с помощью микробов-антагонистов, севооборот и другие агротехнические мероприятия), среди которых лидируют селекция на устойчивость и химический метод (1, 2). Вместе с тем загрязнение окружающей среды и проблемы с безопасностью пищевых продуктов из-за чрезмерного или ненадлежащего применения пестицидов (3, 4), а также снижение продуктивности сортов вследствие преодоления их устойчивости фитопатогенными микроорганизмами (5) вызывают озабоченность во всем мире и стимулируют поиск новых подходов, способных пополнить арсенал надежных и безопасных средств сохранения урожая. Одним из таких подходов может быть индуцированная устойчивость (ИУ), эффект которой основан на активации естественных защитных механизмов растений. При этом для практического применения наиболее перспективны неспецифическая системная устойчивость (СУ) и прайминг (6-8), когда локальная обработка неким индуктором способствует сопротивляемости всего растения к нескольким возбудителям и более активному развитию защитных реакций в ответ на внедрение патогена (9, 10).
Исследования молекулярных механизмов взаимодействия растений с микроорганизмами привели к идентификации целого ряда метаболитов, известных в настоящее время как биогенные элиситоры, которые, активируя сигнальные системы растений (11), запускают определенные защитные ответы, приводящие к формированию СУ (12).
Первоначально термин «элиситор» был введен Ноэлем Кином (Noel T. Keen) в 1975 году для обозначения молекул, способных индуцировать фитоалексины, но сейчас его принято использовать для биогенных и небиогенных соединений, которые стимулируют любой вид защитных реакций растений, участвующих в развитии их системной приобретенной (systemic acquired resistance, SAR) или индуцированной системной (induced systemic resistance, ISR) устойчивости к патогенам и вредителям (13). Биогенные элиситоры не имеют общей химической структуры и принадлежат к широкому кругу различных классов соединений, включая олигосахариды, пептиды, белки и липиды.
Взаимодействуя со множеством встречающихся в природе микроорганизмов, растения распознают консервативные паттерны, представленные общими для целых микробных таксонов молекулярными структурами и метаболитами, которые необходимы для существования непатогенных, в том числе полезных, микроорганизмов (microbe associated molecular patterns, MAMPs) и фитопатогенов (pathogen associated molecular patterns, PAMPs), а также некоторые собственные метаболиты, образующиеся при внедрении патогена и сигнализирующие об опасности повреждения (damage-associated molecular patterns или danger-associated molecular patterns, DAMPs) (7).
В сущности, PAMPs, объединяющие молекулы метаболитов фито-патогенных грибов, бактерий и оомицетов, представляют собой подгруппу МАМРs (14). MAMPs, PAMPs, а также соединения, которые, подобно этим биогенным паттернам, вызывают устойчивость, относятся к экзогенным элиситорам, а DAMPs — к эндогенным. После контакта таких микробных или эндогенных паттернов с распознающими их мембранными рецепторами (pattern recognition receptors, PRRs) (14-17) растения генерируют каскад сигналов (14, 18-22), активирующих различные защитные механизмы врожденного (plant innate immunity, base resistance) или запускаемого паттернами
(pathogen triggered immunity, PTI) фитоиммунитета (23-25).
Защищаясь от патогенов, преодолевших PTI, растения с помощью внутриклеточных R-рецепторов распознают их эффекторы — белки, продуцируемые фитопатогенами, с помощью которых они нарушают рецепцию PAMP и DAMP или подавляют индуцируемые ими защитные реакции, обеспечивая тем самым колонизацию растений-хозяев (7).
Эффекторы, распознанные R-белками, инициируют вторую ступень активного фитоиммунитета — иммунитет, запускаемый эффекторами (effector triggered immunity, ETI) (26). В целом, PTI и ETI формируются сходными защитными ответами растений (27), в том числе реакцией сверхчувствительности (СВЧ) (28, 29), хотя в случае ETI СВЧ развивается чаще и интенсивнее, приводя к быстрой локализации патогенов (30, 31).
У непатогенных для растений микроорганизмов, фитопатогенных грибов, оомицетов, бактерий и вирусов, поражающих сельскохозяйственные культуры, обнаружен целый ряд белков-элиситоров, которые относятся к MAMP/PAMP-типу (7, 31-33), а также эффекторов (в том числе расоспецифических), которые после распознавания растением могут выступать в роли специфических элиситоров (34). Для обозначения элиситоров первого типа также используют термин general elicitors, которому в отечественной научной литературе соответствует термин неспецифические элиситоры (35).
Изучение свойств и механизмов действия этих элиситоров представляет собой новый кластер исследований, результаты которых становятся базой для развития одного из наиболее экологичных направлений в защите растений.
В качестве наиболее перспективных рассматриваются биогенные элиситоры, способные вызывать СУ, биодеградация которых в природе проходит без образования токсичных продуктов, а также те, для которых имеются доступные источники и могут быть разработаны относительно дешевые технологии производства. Этими свойствами обладают многие элиситоры белковой природы, найденные у микроорганизмов. Кроме того, для белковых элиситоров, помимо использования посредством обработки семян или листвы, существует возможность конститутивной или индуцибельной экспрессии их трансгенов в растениях. Наконец, отсутствие прямого биоцидного действия белковых элиситоров СУ на фитопатогены позволяет свести к минимуму вероятность развития у них резистентности к этим средствам защиты.
За последние несколько десятилетий достигнут значительный прогресс в идентификации микробных белков, которые участвуют во взаимодействии с культурными растениями как индукторы защитных ответов или факторы вирулентности, а также в понимании того, как происходит это взаимодействие на молекулярном уровне, какие сигнальные системы запускаются белковыми элиситорами МАМР-типа и каким образом распознавание белков-эффекторов патогенов включает ЕТI.
Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения индуцирующих устойчивость белков в качестве новых средств биоконтроля. В связи с этим в российских научных журналах все чаще появляются публикации, связанных с ИУ растений к болезням и абиотическим стрессам (36-38). При этом в качестве индукторов, на основе которых создаются защитные препараты, рассматриваются соединения небелковой природы, главным образом хитозан, синтетические аналоги и производные сигнальных молекул растений — салицилата (SA) и жасмоната (JA), а также соединения, воспроизводящие их действие. В ряде обзоров подробно рассмотрены защитные белки растений, их роль в иммунитете (39), а в неко- торых публикациях отмечена защитная роль антимикробных пептидов рибосомального и нерибосомального синтеза из биоконтролирующих грибов и бактерий (40). Однако индуцирующие устойчивость к болезням микробные белки описаны недостаточно полно.
Настоящий обзор посвящен анализу информации, отражающей наиболее важные достижения в области идентификации и исследования свойств элиситорных белков микроорганизмов. В нем рассматриваются как консервативные бактериальные, грибные и вирусные белки и пептиды, которые распознаются растениями как МАМР/РАМР-элиситоры и обеспечивают неспецифическую устойчивость (PTI), инициируя общие защитные реакции у растений, так и специфические элиситоры — белки-эффекторы грибов и бактерий (41, 42). В тех случаях, когда это известно, кратко описаны особенности структуры элиситоров и механизмы их действия, то есть защитные ответы растений, которые индуцируются соответствующими элиситорами. Мы также старались показать многообразие видов микроорганизмов, которые способны продуцировать элиситорные белки. Отдельный раздел посвящен публикациям о разработанных на их основе препаратах (в том числе в России и Китае), которые уже доказали свою эффективность в полевых условиях и нашли практическое применение.
Эндогенные белковые элиситоры DAMP-типа, играющие важную роль в развитии ИУ, и медиаторные белки, участвующие в распознавании и трансдукции сигнала, останутся за рамками обзора, поскольку они не имеют микробного происхождения, а являются активными молекулами самих растений. Кроме того, в разделе о гликопротеинах и пептидоглюканах упомянуты только те из них, у которых элиситорная активность связана с белковым фрагментом.
Элиситорные белки и пептиды бактерий. Флагеллин. Флагеллин патогенных и непатогенных бактерий — наиболее изученный белковый элиситор из разряда МАМР/PAMPs (43). Он представляет собой глобулярный кислый белок, образующий наружную спиральную нить жгутика бактерий. Для флагеллина характерны высокая консервативность N- и C-концевых последовательностей, очень низкое содержание тирозина и фенилаланина, отсутствие триптофана и цистеина, а следовательно, и двойных связей, и весьма высокое содержание аланина, глутаминовой и аспарагиновой аминокислот (44). Этот эволюционно консервативный и жизненно важный для мобильных бактерий белок может распознаваться растениями. Фла-геллин-распознающие рецепторы растений (flagellin sensitive, FLS) относятся к богатым повторами лейцина рецептороподобным киназам XII семейства белков (LRR-RLK XII) (45-47).
В большинстве случаев в качестве элистора, способного индуцировать как локальный, так и системный иммунный ответ растения распознают эпитоп flg22 — один из фрагментов N-концевой последовательности белка, состоящий из 22 аминокислот, основной мотив которого содержит 15 наиболее консервативных аминокислотных остатков. Большинство растений имеют рецептор FLS2 (чувствительная к флагеллину киназа), распознающий именно этот участок белка (45, 48). Интересно, что у молекул флагел-лина, которыми сформированы протофиламенты нитей бактериального жгутика, олигопептид flg22 скрыт внутри белковой глобулы и не доступен для FLS2. Однако в мономерах флагеллина во время самосборки жгутиков или после их распада при отмирании он становится доступными для этого рецептора (34) и действует как мощный элиситор в субнаномолекулярных концентрациях (33).
Другие растения, в частности рис (Oryza sativa L.), способны распо- знавать состоящий примерно из 35 аминокислотных остатков фрагмент С-концевой области флагеллина (CD2-1) (49), а растения семейства пасленовых, томат (Solanum licopersicy L.) и картофель (S. tuberosum L.), — отличный от flg22 участок N-терминальной области флагеллина, flgII-28, для которого имеется свой специальный рецептор FLS3 (50, 51).
После распознавания flg22 рецептор FLS2 взаимодействует с серинтреониновой киназой BAK1 (рецептор брассиностероидов), что активирует внутриклеточные киназные домены этих рецепторов (50), инициирует передачу элиситорного сигнала и индуцирует системные защитные ответы растений, приводя к формированию PTI (44, 51) ко всем бактериям, имеющим жгутики.
Однако в процессе эволюции некоторые из этих бактерий, например Pseudomonas syringae pv. tomato , Xanthomonas campestris pv. campestris или Ralstonia solanacearum , приобрели модифицированные последовательности flg22. Это позволяет им уклоняться от полноценного распознавания рецептором FLS2, когда бактерии с такой модификацией атакуют арабидопсис ( Arabidopsis thaliana L.) Heynh или пасленовые культуры (33, 52). Исследования молекулярных механизмов устойчивости растений семейства Sola-naceae к патогенам с модифицированным flg22 привело к идентификации упомянутого выше рецептора FLS3, который узнает последовательность flgII-28 (53). В частности, у картофеля под воздействием flgII-28 происходит активный выход в цитозоль ионов Ca2+, сдвиг экстрацеллюлярного рН в щелочную область, генерация активных форм кислорода (АФК), фосфорилирование митоген-активируемой протеинкиназы и активация защитных генов растения (54). Интересно, что при этом все защитные реакции в случае flgII-28 выражены значительно сильнее, чем в случае flg22. Следует отметить, что способность бактерий модифицировать элиситорные пептиды флагеллина оказывается полезной при симбиотическом взаимодействии. Например, измененный flg22, на который не реагируют бобовые, обнаружен у азотфиксирующей клубеньковой бактерии Rhizobium meliloti , что помогает ей избегать запуска защитных реакций растения и обеспечивать взаимодействие, выгодное как для самой бактерии, так и для растения-хозяина (33).
Таким образом, разные виды растений узнают разные области фла-геллина, а его пептиды flg22, CD2-1 и flgII-28 действуют как активные МАМР/PAMP-элиситоры РTI. Флагеллин также распознается Тoll-подоб-ным рецептором TLR5 макрофагов и дендритных клеток и активирует врожденный иммунитет у высших животных. Однако TLR5 взаимодействует не с flg22, CD2-1 или flgII-28, а с другим доменом флагеллина, образованным N- и C-концевой частями пептидной цепи (42, 55).
Фактор элонгации Tu. Другой консервативный белок бактерий, идентифицированный как элиситор МАМР/РАМР-типа, — фактор элонгации Tu (EF-Tu). К его открытию привело изучение способности экстрактов из R. solanacearum , Sinorhizobium meliloti с модифицированным flg22, не доступным для распознавания FLS2, и из мутантного штамма Escherichia coli с дефектным геном флагеллина вызывать обратимое изменение ионного обмена в суспензионной культуре клеток арабидопсиса. Оказалось, что исследуемые экстракты, несмотря на отсутствие flg22 или его рецептора, вызывают этот типичный для флагеллина защитный ответ (56). В результате из экстракта E. coli был выделен EF-Tu, за элиситорную активность которого отвечает пептид elf18, состоящий из 18 аминокислотных остатков и локализованный в N-концевой последовательности белка. Более короткий N-терминальный фрагмент EF-Tu — elf12 не обладает индуцирующей активностью и действует как антагонист elf18.
Элиситорный фрагмент elf18 распознается рецептором EFR. Как и флагеллин-распознающие рецепторы FLS, EFR принадлежит к XII подгруппе семейства LRR-RLK (47). Гены, кодирующие EFR-подобные белки с высоким сходством последовательностей в киназных доменах, обнаружены у многих растений, в том числе у видов Brassicaceae и риса, причем восприятие elf18 определяют разные эктодомены (33).
В дальнейшем с помощью метода аланинового сканирования удалось оценить вклад отдельных аминокислот в элиситорную активность elf18. Пептиды с замененными на аланин аминокислотными остатками в положениях 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12 или 13 обладали той же активностью, что и elf18. Напротив, замены в положениях 2, 4, 5 и 7 приводили к снижению активности пептида в 10-400 раз. При одновременной замене остатков в положениях 2 и 5 активность снижалась в 50 000 раз (56).
N-концевые последовательности с высокой гомологией к elf18 были обнаружены у EF-Tu ряда фитопатогенных бактерий, например у Erwinia amylovora , E. chrysanthemi , P. syringae , Xylella fastidiosa , S. meliloti и Agrobacterium tumefaciens . Пептиды двух последних видов, состоящие из 18 аминокислотных остатков, были так же активны, как elf18, а аналогичные N-терминальны пептиды из P. syringae (патоген томата) и X. fastidiosa (патоген винограда, цитрусовых, оливы и других культур) даже при концентрациях, в 4 и 7,5 раза превышавших концентрацию elf18 из E. coli , оказались менее активны (56, 57).
Детальное изучение структуры elf18 и ее функциональной связи с элиситорной активностью позволили использовать этот пептид для углубленных исследований механизмов развития РTI. В частности, несколько лет назад благодаря профилированию транслатома арабидопсиса, в листья которого инфильтрировали elf18, был выяснен молекулярный механизм глобального трансляционного перепрограммирования, происходящего в растениях при формировании PTI (56).
Харпины. Защитные свойства бактериальных белков харпинов были впервые обнаружены в начале 1990-х годов Z.-М. Wei и группой сотрудников из лаборатории Стивена Бира (Steven V. Beer) в Корнельском университете (Cornell University, США). Они установили, что один из белков фи-топатогенной бактерии Erwinia amylovora , вызывающей ожег плодовых семейства Rosacea (харпин), может индуцировать CBЧ реакцию и быструю гибель листовой пластинки у табака ( Nicotiana tabacum ), который не относится к растениям-хозяевам этой бактерии, а также вызывать обратимое повышение pH в суспензии его культивируемых клеток (58).
Практически в то же время (1993 год) группой исследователей под руководством S.Y. He (59) была показана способность внеклеточного белка из P. syringae pv. syringae вызывать реакцию CBЧ у растений, не являющихся хозяевами для этой бактерии. Белок harpinPss (продукт гена hrp ) вызывал некрозы на листьях табака и других растений (59). Позже было установлено, что харпин Hpa1 из X. axonopodis pv. glycines — возбудителя пустульной пятнистости сои индуцирует СВЧ гибель клеток табака (60).
Все известные сейчас харпины принадлежат к термостабильным ци-стеин-дефицитным кислым белкам с относительно высоким содержанием остатков глицина и серина (61, 62). Харпины вводятся в растения системой секреции III типа (type three secretion system, T3SS) грамотрицательных фито-патогенных бактерий при их взаимодействии с растением-хозяином и могут играть роль как эффекторов (T3 effector, T3E), необходимых для патогенности, которые нарушают целостность мембраны хозяина, так и элиситор-794
ных микробных паттернов, индуцирующих защиту от патогенов. В последнем случае обработка растений харпинами повышает устойчивость к болезням, а также стимулирует рост культур, приводит к увеличению урожая и улучшению его качества. Более того, харпин HrpN индуцирует устойчивость арабидопсиса к засухе, активируя жасмонат-зависимый сигнальный путь (63).
Открытие в середине 1980-х годов харпинового кластера генов hrp / hrc и последующая демонстрация того, что эти гены кодируют семейство TTSS-белков у грамотрицательных бактерий, патогенных для растений и животных, а также для растительных симбионтов, стало важной вехой в молекулярной фитопатологии (64). В частности, было установлено, что у E. amylovora гены кластера hrp , ответственные за продукцию харпинов, контролируют также патогенность бактерии и ее способность вызывать СВЧ-гибель клеток растений (65). В геноме X. oryzae был обнаружен кластер hrp , который содержит консервативные гены hrp и hrc , чьи продукты могут распознаваться растениями и индуцировать устойчивость, и ассоциированные с патогенезом гены hpa (65, 66). Затем установили, что активация экспрессии генов, кодирующих харпины, и последующего синтеза этих белков происходит в процессе взаимодействия патогена с растением-хозяином (67, 68).
К настоящему времени гены hrp обнаружены у ряда фитопатогенных бактерий, включая представителей родов Erwinia , Pantoea , Pseudomonas , Xan-thomonas и Ralstonia (63), и идентифицированы несколько харпинов, которые на основании их структуры подразделяются на четыре основные группы: HrpN, HrpZ1, HrpW1 и Hpa1 (61, 66, 69-72). Некоторые авторы рассматривают харпины HpaG как отдельную группу (61, 69). Для каждой из этих групп известно несколько белков с небольшими структурными различиями, которые продуцируют патогены, поражающие различные растения — цитрусовые (73), соевые бобы (74), рис (75, 76), перец (77), хлопок (70). Например, многие виды Xanthomonas секретируют харпиновые эффекторы группы Hpa1. В частности, у возбудителя бактериального ожога риса X . oryzae pv. oryzae обнаружен харпин Hpa1Xoo (78). Харпин Hpa1Xag выделен из X . axon-opodis pv. glycines (73). Штамм DC3000 P. syringae pv. tomato продуцирует два типа харпинов — HrpZ1 и HrpW1 (79). Харпины HrpNEa, HrpNEch, HrpZPss и HrpZPsph синтезируются соответственно E. amylovora , E. chrysanthemi , P. syringae pv. syringae и pv. phaseolicola (80, 81, 82). Ортологи группы HrpW найдены у E. amylovora (HrpW), P. syringae pv. syringae (HrpW1, HopAK1) и Ralstonia solanacearum (PopW, PopA1), а HpaXm — у X . citri subsp. malvacearum (64). В то же время у бактерий, патогенных для маниоки, до сих пор не обнаружено харпин-подобных белков.
Установлено, что харпины не только способны запускать локальную реакцию СВЧ, но и действовать как элиситоры SAR (82). Так, харпин HrpZ1, взывающий реакцию СВЧ у различных видов растений, может активировать несколько их сигнальных систем и запускать как ранние, так и более поздние защитные ответы (83). Оказалось, что харпины HrpZ1 имеют высокую аффинность к растительным мембранам и специфически связываются с ними. Это позволило предположить, что развитие защитных реакций в ответ на HrpZ1 происходит после его связывания с рецептором. Действительно, мембраны микросом, полученных из культуры клеток петрушки, содержат устойчивый к протеазам термостабильный сайт связывания С-концевого фрагмента HrpZ1 (84). Взаимодействие с растительными рецепторами было показано и для других харпинов. В частности, для хар-пина HrpN из E. amylovora , который in vitro связывается с небольшим (6,5 кДа) белком HIPM, ассоциированным с плазматической мембраной рекомбинантного дрожжевого клона, экспрессирующего этот белок яблони.
Ортологи HIPM были позже обнаружены в рисе (OsHIPM) и арабидопсисе (AtHIPM) (85).
Что касается защитных реакций, которые индуцируют харпины, то наряду с СВЧ они часто вызывают образование АФК. Так, харпины из P. syringae pv. glycinea и X. oryzae pv. oryzae способны вызывать генерацию АФК клетках табака, а один из харпинов E. amylovora стимулирует образование АФК не только в клетках табака, но и у A. thaliana . Обработка коммерческим харпин-содержащим препаратом Messenger («EDEN Bioscience Corp.», США) суспензионной культуры клеток винограда вызывает интенсивный окислительный взрыв и активацию гена стильбенсинтазы, ответственной за синтез фитоалексина резвератрола (86). S. Sang с соавт. (86) показали, что харпины активируют защитные реакции через передачу генерируемого в апопласте сигнала с участием НАДФН-оксидазной системы растений. У трансгенных растений арабидопсиса, экспрессирующих ген хар-пина Hpa1Xoo, в цитоплазме и апопластах образуется и накапливается перекись водорода. Подавление апопластного образования H 2 O 2 снижает как накопление АФК в цитоплазме, так и устойчивость растений к бактериальным патогенам. Эти данные позволяют предположить, что апопластный H 2 O 2 подвергается цитоплазматической транслокации для участия в защите растения от патогенов. Как харпин, так и H 2 O 2 индуцируют экспрессию генов растений, кодирующих участвующие в СУ ферменты, такие как фе-нилаланин-аммиак-лиаза (phenylalanine ammonia lyase, PAL), глутатион-S-трансфераза (glutathione S-transferases, GST) и антранилатсинтаза (anthranilate synthase 1, ASA1). У арабидопсиса H 2 O 2 усиливает экспрессию PAL1 и GST, но не ASA1. Предполагается, что харпины активируют два различных сигнальных пути, один из которых приводит к увеличению образования АФК и экспрессии мРНК PAL1 и GST, другой — к усилению экспрессии GST и ASA1 независимо от H 2 O 2 (87).
Трангеноз генов, кодирующих бактериальные харпины, в растения приводит к повышению их устойчивости к различным патогенам. Так, у трансгенных растений хлопчатника, экспрессирующих ген hpaXoo (один из генов, кодирующих харпины), при заражении патогенным грибом Verticillium dahliae было отмечено усиленное образования АФК. Рекомбинантный белок HpaG из X. oryzae pv. oryzicola эффективно индуцировал устойчивость риса (88), а у трансгенных растений табака и свеклы, экспрессирующих ген белка HrpZ из P. syringae pv. рhaseolicola , повышалась устойчивость к ризомании (89).
Как было упомянуто выше, структура харпинов, выделенных из различных видов бактерий, варьирует, однако сохраняется общая для этих белков способность индуцировать устойчивость к различным патогенам у растений, которые не служат их хозяевами. В связи с этим были проведены исследования функций отдельных фрагментов в молекулах харпинов (69, 71, 89). Установлено, что определенные фрагменты Hpa1-подобных харпи-нов X. citri subsp. malvacearum (фрагмент, включающий аминокислотные остатки 35-51) и X. oryzae pv. oryzae (фрагмент 36-52) могут индуцировать реакцию СВЧ (82). Кроме того, было показано, что к развитию этой реакции приводит инфильтрация в листья табака фрагмента из 24 аминокислот, который присутствуюет в С-концевой области харпина HrpZ, выделенного из P. syringae (71). Было также обнаружено, что С-терминальный фрагмент белка HrpZ1 из P. syringae pv. phaseolicola обладает свойствами элиситора типа PAMP и способен индуцировать ранние защитные ответы растений, в частности активировать две протеинкиназы (MPK3 и MPK6) из MAP-киназного сигнального каскада. Инсерционный мутагенез гена, ответствен- ного за синтез HrpZ1, подтвердил важность последовательности на С-конце для элиситорной активности целого белка (86). Кроме того, при изучении функций отдельных доменов харпиновых белков было показано, что фрагмент (HpaG10-42) харпина HpaGXooc из X. oryzae, содержащий аминокислотные остатки с 10 по 42, служит более активным индуктором, чем полноразмерный белок HpaGXooc, и в полевых условиях повышает устойчивость растений риса к бактериальной гнили (X. oryzae pv. oryzae), пирикуляриозу (Magnaporthe oryzae) и ризоктониозу (Rhizoctonia solani) (90). Этот же фрагмент HpaG10-42 оказался способен запускать защитные реакции у экспрессирующих его растений пшеницы (91).
В целом, исследования элиситорных свойств харпинов свидетельствуют о том, что эти бактериальные белки обладают всеми важными признаками PAMPs: они широко распространены у различных видов бактерий, связываются с PRR-рецепторами и запускают первичные защитные ответы растений. Ключевыми детерминантами, ответственными за элиситорную активность, по крайней мере у некоторых харпинов, могут быть их пептидные фрагменты. Кроме того, взаимодействие харпинов с рецепторами растений может приводить не только к развитию СУ за счет активации генов, участвующих в реализации защитных реакций в растениях, но и к стимуляции их роста, улучшению физиологического состояния и повышению урожайности (72, 73).
Сравнение элиситорных эффектов харпинов и флагеллина. Флагеллин и харпины — это эволюционно удаленные бактериальные МАМРs/PАМРs. Сравнение ответов растительных клеток на воздействия flg22 и харпинов показывает, что механизм их элиситорного действия имеет ряд различий. Так, при обработке культуры клеток двух сортов винограда было обнаружено, что активирующий PTI элиситор flg22, в отличие от харпинов, гораздо реже вызывает СВЧ-гибель клеток. Кроме того, обработка харпином приводит к более быстрому и интенсивному развитию окислительного взрыва по сравнению с flg22 (84). Недавно L.B. Sands с соавт. (91) показали, что харпин способен эффективно индуцировать устойчивость конопли к P. aphanidermatum и стимулировать рост зараженных растений. Обработка же flg22 не вызывала защитных реакций и не стимулировала рост проростков. В связи с этим авторы предположили, что защитные реакции, индуцированные flg22, недостаточно активны для эффективного подавления инфекции P. aphanidermatum на проростках растений этого вида.
X. Chang с соавт. (92) установили, что flg22 индуцирует накопление жасмоата у растений скального винограда (Vitis rupestris Scheele), а харпины не вызывают такого эффекта, хотя активация JA-зависимого сигналинга, как отмечалось выше, может происходить под их воздействием, повышая устойчивость к абиотическим стрессам (64). Более того, трансдукция сигнала, связанная с его JA-зависимой передачей c участием этилена (ethylene, ET), была отмечена после обработки проростков конопли как харпином, так и flg22. В то же время оба этих бактериальных элиситора способны стимулировать экспрессию аналогичных защитных генов и индуцировать сходные защитные ответы растений (93, 94). Кроме того, харпины, как и flg22, могут активировать салицилат-зависимый сигнальный путь, который приводит к SAR (95). Однако, в отличие от flg22, вызывающего типичный PTI, в ответ на харпины более часто развиваются те защитные реакции, которые характерны для ETI (96), но иногда тип защитного ответа зависит от способа обработки растений. Например, харипн из E. amylovora при инфильтрации в межклетники вызывает реакцию СВЧ, а при опрыскивании растений индуцирует SAR (58). Не исключено, что совместное использование этих элиситоров может приводить к синергизму, обусловленному одновременной активацией PTI и ETI, и существенно усиливать защитный ответ растений (96).
Белки холодового шока . Белки холодового шока (сold shock proteins, CSP) широко распространены у про- и эукариот. Все они имеют в своем составе консервативные домены CSD (сold shock domain, домен холодового шока), обладают способностью связываться с нуклеиновыми кислотами и активируют или подавляют экспрессию большого числа генов, участвующих в клеточном делении, дифференцировке и кодирующих разнообразные защитные белки (97-99).
Бактериальные CSP объединяют семейство белков с молекулярной массой около 7 кДа, состоящих из единственной аминокислотной последовательности длиной около 70 аминокислотных остатков (98). Синтез CSP активируется при низких температурах и представляет собой один из механизмов адаптации организмов к неблагоприятным условиям окружающей среды. CSP, первоначально обнаруженные у бактерий, подвергнутых холодовому стрессу, как было показано позже, синтезируются конститутивно, а также в ответ на другие стрессы (99). Как и у бактерий, у растений CSP способствуют адаптации к холоду, а чужеродные CSP распознаются как компоненты МАМРs/PAMPs и индуцируют устойчивость к патогенам. Эли-ситорная активность бактериальных CSP семейства CspB впервые была показана в классических экспериментах, которые с помощью регистрации обратимого повышения экстрацеллюлярного рН суспензионной культуры клеток растений позволяют фиксировать один из наиболее ранних защитных ответов — обратимое изменение ионного обмена на плазмолемме растительной клетки (99, 100).
При этом было обнаружено, что за способность вызывать быстрый ответ культивируемых клеток томата, табака и картофеля отвечает один из поверхностных доменов CSP, включающий РНК-связывающий домен, известный как RNP-1 (или NPCS). Дальнейшие исследования показали, что многие виды семейства Solanaceae распознают как MAMP/РАМР высококонсервативный мотив домена RNP-1, представленный пептидом из 22 ароматических и основных аминокислотных остатков и получивший название csp22. Его рецепторами служат обнаруженная у культурного вида томата Solanum lycopersicum L. LRR-RL-киназа CORE и рецептороподобный белок NbCSPR из Nicotiana benthamiana Domin (101). Гомологи NbCSPR обнаружены лишь у некоторых видов Solanaceae и отсутствуют у S. lycopersicum, в то время как LRR-RLK, гомологичные CORE, встречаются у ряда пасленовых, включая виды Solanum и Nicotiana. Экспрессирующие CORE трансгенные растения арабидопсиса приобретают чувствительность к csp22, что делает их более устойчивыми к патогенному штамму P. syringae pv. tomato . Минимальная аминокислотная последовательность csp22, которая активирует защитные ответы в растительных клетках, насчитывает 15 аминокислотных остатков. Этот высококонсервативный эпитоп сsp15 вызывает защитные реакции растений. В частности, в концентрации около 0,1 нМ он индуцирует окислительный взрыв в клетках табака и картофеля, но не распознается как элиситор клетками риса и огурца ( Cucumis sativus L.) (100).
CspD — другой белок холодового шока, выделенный из Bacillus thuringiensis, он известен также как микробный фактор 2 (MF2). Ген B. thuringiensis, кодирующий этот термостабильный низкомолекулярный белок с молекулярной массой 7,2 кДа, был клонирован и секвенирован (AY272058, GenBank, . Оказалось, что его нуклеотидная последовательность и аминокислотная последовательность 798
CspD имеют высокую гомологию с другими бактериальными CSP. Как и сsp22 или сsp15, CspD вызывает обратимое изменение ионного обмена у культивируемых клеток табака, но, в отличие от этих элиситоров, способен активировать защитный ответ у клеток томата и риса и индуцировать неспецифическую системную устойчивость различных однодольных (рис, пшеница) и двудольных (томат, табак, картофель) растений к патогенным грибам, оомицетам и вирусам (101). Так, после нанесения CspD на листья пшеницы или опрыскивания проростков картофеля и риса растворами этого элиситора отмечалось повышение устойчивости соответственно к возбудителям септориоза ( Parastagonospora nodorum ), фитофтороза ( Phytophthora infestans ) и пирикуляриоза ( M. oryzae ) (102).
Воздействие CspD на растения табака снижало его пораженность вирусом табачной мозаики (ВТМ) и Х-вирусом картофеля. Пептид сsp15 белка CspD (VKWFNAEKGFGFITP) также обладал элиситорной активностью. Его внесение в суспензию культивируемых клеток табака активировало Н+-помпу и вызывало обратимое изменение внеклеточного рН. Этот пептид, как и сам CspD, проявлял индуцирующую активность в модельных системах растение—патоген. Обработка половинок табачного листа csp15 в концентрации от 1 до 10 мМ за 1 сут до инокуляции ВТМ приводила к резкому уменьшению числа некрозов на обработанных половинках по сравнению с контрольными половинками или необработанными листьями того же растения (102). Нанесение csp15 на поверхность дисков, вырезанных из клубней картофеля, усиливало СВЧ ответ клеток к P. infestans и вызывало накопление салициловой кислоты в тканях клубней, обработанных этим пептидом (103). Трансгенные линии табака некрозообразующего сорта Xanthi NN и восприимчивого к ВТМ сорта Samsun nn проявляли повышенную устойчивость к Alternaria longipes и ВТМ, причем экспрессия CspD положительно коррелировала с устойчивостью растений к обоим патогенам (103).
Элиситорные белки и пептиды мицелиальных грибов. Как и бактерии, грибы-микромицеты синтезируют целый ряд белков и пептидов с функциями неспецифических или специфических элиситоров.
Индуцирующие устойчивость эффекторы Cladosporium fulvum. Специфические белковые элиситоры фитопатогенного гриба C. fulvum (цистеинсодержащие пептиды Avr2, Avr4, Avr4E, Avr9 Ecp1, Ecp2, Ecp4 и Ecp5) были открыты и детально изучены группой исследователей из университета в Ва-генингене (Wageningen University, Нидерланды) во главе с P.J. de Wit (104, 105). Эти эффекторы функционируют как факторы вирулентности. Связывая хитин, они препятствуют его детекции паттерн-распознающими рецепторами при заражении томата совместимыми расами гриба и предотвращают деградацию хитина растительными хитиназами (106). Однако у томата (растение-хозяин для C. fulvum ) есть эффективная система распознавания этих эффекторов, после которого индуцируются защитные ответы растений, в том числе СВЧ (107).
Элиситор Avr4 состоит из 101 аминокислоты, включая 6 цистеиновых остатков, а Avr9 представляет собой пептид из 28 аминокислот. Последовательности Avr4 и Avr9 имеют низкую гомологию. Зрелый пептид Avr2 включает 58 аминокислот, 8 из которых приходится на цистеин. После процессинга более крупных белков-предшественников грибными и/или растительными протеазами зрелые пептиды обнаруживаются в апопласте томатов и индуцируют СВЧ ответ в растениях с комплементарными генами устойчивости cf4, cf9 или cf2 , вслед за которым развиваются и другие защитные реакции (31, 106). Ниже в качестве примеров будут более подробно рассмотрены три (Avr4, Avr9, Ecp6) из идентифицированных в настоящие время
Avr- и Ecp-элиситоров.
Как и большинство грибных эффекторов, Avr4 и Avr9 поступают в растения через секреторный путь эндоплазматического ретикулума C. fulvum и распознаются продуктами R-генов как расоспецифические элиситоры. Avr4 узнает и связывает рецептороподобный белок Cf4 без киназной активности. Кроме того, для развития реакции СВЧ может быть необходимо взаимодействие Cf4 с рецептороподобной киназой OBIR1 (108, 109). Индукция СВЧ в ответ на Avr9 может, по-видимому, происходить в результате его распознавания одним из двух способов. Во-первых, после образования комплекса Avr9 с высокоаффинным сайтом связывания и последующим взаимодействием с заякоренным в мембране внеклеточным рецепторным гликопротеином белком Cf-9, во-вторых, после непосредственного низкоаффинного связывания Avr9 с Cf-9 (99, 100). Инфильтрация Avr4 и Avr9 в ткани томата приводит к специфической активации целого арсенала защитных ответов растений, включая утечку электролитов, стимуляцию Н-АТФазы плазматической мембраны, генерацию АФК и окислительный взрыв, а также повышение активности липоксигеназы и ндук-цию PR-белков (β-глюканазы и хитиназы) (31).
Ecp6 — еще один хитин-связывающий эффекторный белок, который C. fulvum секретирует в апопласт при колонизации растений томата. Он содержит три лизиновых мотива (LysM1, LysM2 и LysM3). LysM2 и LysM3, как предполагают, формируют домены, необходимые для взаимодействия с хитином, а LysM1 может узнаваться растением, поскольку способен запускать ответ в суспензионной культуре клеток томата (110). Предполагают, что у растений томата, развивающих при инфильтрации в них Ecp6 реакцию СВЧ, на поверхности клеток локализован гипотетический рецептор, названный Cf-Ecp6 (111). Что касается распространения специфических элиситоров, сходных с описанными здесь для C. fulvum , то гомологи Avr4 найдены у грибов из класса Dothideomycetes , а Ecp6-подобные гены широко распространены в царстве грибов (112, 113).
Известно также, что C. fulvum продуцирует белок CfHNNI1, гомологичный фактору трансляции bZIP. Этот неспецифичный элиситор индуцирует экспрессию lehsr203 (маркерный ген СЧВ) и вызывает устойчивость у растений-нехозяев, принадлежащих к трем разным семействам. Трансгенные растения табака с геном, кодирующим CfHNNI1, оказались устойчивы к P. parasitica var. nicotianae , P. syringae pv. tabaci и ВТМ. Установлено, что способность CfHNNI1 индуцировать СВЧ обусловлена консервативными для факторов bZIP аминокислотными остатками. Показано также, что механизм его действия не связан с активацией JA/ET-зависимого сигнального пути и что элиситорная активность CfHNNI1 снижается под влиянием инд-куторов SA-зависимого сигналинга (31).
Элиситоры фитопатогенных и непатогенных фузариевых грибов. Как и С. fulvum , возбудитель фузариозного вилта томата Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ( FOL ) продуцирует обогащенные цистеином белки-эффекторы, опознаваемые растениями с комплементарными генами устойчивости. Один из таких эффекторов, названный SIX1-белком, был первым фактором ави-рулентности, который обнаружили у FOL и других патогенов, проникающих в растения через корни (113). После созревания 32 кДа-предшественника, полипептид (12 кДа) из центральной части SIX1, содержащий 6 остатков цистеина, секретируется в ксилемный сок инфицированных растений и индуцирует защитные реакции у линий томата с геном устойчивости к этому эффектору. У F. oxysporum идентифицировано не менее 11 малых богатых цистеином белков типа SIX1 и показано, что, по крайней мере, три из них
(SIX1, SIX3/SIX4) играют роль факторов авирулентности, которые у сортов и линий томатов с геном I ( I-1 , I-2 , I-3 ) индуцируют устойчивость к специализированным для разных растений-хозяев формам FOL . Гомолог SIX1 был обнаружен также у F. graminearum (113).
Из мицелия непатогенного для томата штамма F. oxysporum CS-20 , защищающего растения от штаммов FOL , вызывающих вилт, выделен элиситор CS20EP — основной полипептид белковой фракции, снижавшей поражение томата этим патогеном за счет ослабления симптомов и замедления развития болезни. CS20EP представляет собой малый богатый цистеином основной белок (pI 9,87) с молекулярной массой около 10 кДа, содержащий 23 % гидрофобных аминокислотных остатков. Его цистеиновый мотив составлен 11 остатками цистеина, 6 из которых локализованы в N-терминальной области. Фракция, содержащая CS20EP, индуцирует быстрое обратимое изменение внеклеточного рН в культуре клеток томата, повышенную активность хитиназы в корневой системе его проростков и системное усиление в листьях экспрессии генов, кодирующих медиаторный белок PR-1 — маркер SAR. Предполагается, что этот элиситор может секретироваться штаммом CS-20 и вносить вклад в его биоконтролирующий эффект (114).
В составе другого агента биоконтроля — непатогенного для пшеницы изолята F. sambucinum FS-94 также были обнаружены и частично идентифицированы элиситоры белковой природы, которые, в отличие от CS20EP, индуцируют системную и локальную устойчивость растений не только к FOL (115), но и к возбудителям корневых гнилей пшеницы ( Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana ) (116) и серой гнили крестоцветных ( Phoma lingam ). Эти неспецифические элиситоры объединяют фракцию белков размером от 40 кДа до 67 кДа, основной полипептидный компонент которой имеет молекулярную массу около 50 кДа, и активируют как ранние, так и более поздние защитные ответы двудольных и однодольных растений. В частности, в суспензионной культуре клеток двух видов пшеницы — Тriticum aestivum L. и T. kiharae Dorof. et Migush. они вызывают обратимое изменение ионного обмена и повышают толерантность клеток к лизису, вызванному F. culmorum . В проростках из обработанных семян T. kiharae они усиливают экспрессию генов дефензиноподобных антимикробных пептидов (АМП), чьи продукты имеют высокую гомологию с дефензинами Tk-AMP-D и Ec-AMP-D1, обнаруженными соответственно у пшеницы и диких злаковых. Эти АМП в микромолярных концентрациях активны против нескольких фитопатоген-ных грибов, включая Fusarium spp. и H. sativum (син. B. sorokiniana ).
Из культуральных фильтратов F. oxysporum f. sp. erythroxyli ( FOE ), вызывающего васкулярный вилт растений коки ( Erythroxylum coca Lam.), выделен белок Nep1 (24 кДа) с консервативным доменом GHRHDWE. Он индуцирует некроз и продукцию ET у многих видов двудольных растений. В листьях табака Nep1 вызывает накопление синтазы 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (AЦК) и оксидазы AЦК, участвующих в синтезе ET, a в культуре клеток растений — обратимое изменение ионного обмена и генерацию АФК (32). Генетически не родственные, но обладающие аналогичной активностью и таким же размером белки были обнаружены у F. ac-cuminatum и F. avenaceum , а у FOE выявлен белок, гомологичный описанному ниже элиситору PaNie 213 из Pythium aphanidermatum . Хотя в модельных экспериментах Nep1 из FOE активирует те же многие процессы, что и типичные элиситоры, он обладает выраженной фитотоксичностью в отношении двудольных и не индуцирует устойчивость растений к болезням. Более того, он может действовать как контактный гербицид, который способствует растений патогеном растений, а не их защите (117). В настоящее время
Nep1-подобные белки ( Nep1-like proteins, NLP) обнаружены у многих ассоциированных с растениями микроорганизмов, и некоторые из них продуцируют NLP, не обладающие фитотоксичностью. Так, биотроф Hyalo-peronospora arabidopsidis (возбудитель ложной мучнистой росы арабидопсиса) секретирует 10 нецитотоксических NLP, которые не вызывают образования некрозов, но запускают механизмы PTI и индуцируют устойчивость к H. ara-bidopsidis . Один из этих NLP — HaNLP3 активирует экспрессию большого набора защитных генов арабидопсиса, действуя как элиситор MAMP типа. Интересно, что фрагмент (24 кДа) из центральной части NLP некоторых других грибов, а также бактерий тоже способны активировать PTI (118).
Элиситоры из других микромицетов. Различные белки и пептиды, обладающих свойствами элиситоров, идентифицированы и у других фитопа-тогенных мицелиальных грибов, принадлежащих к некротрофам или ге-мибиотрофам, а также у сапротрофов — антагонистов этих фитопатогенов.
Расоспецифический элиситор NIPI — продукт гена AvrRrs1 был выделен из культурального фильтрата Rhynchosporium secalis (возбудитель ожога ржи и ячменя). Этот ген кодирует белок из 82 аминокислот, который после отщепления сигнального пептида превращается в зрелый белок из 60 аминокислот, содержащий 10 остатков цистеина в пяти внутримолекулярных дисульфидных связях. У сортов ячменя с геном Rrs1 , устойчивых к несовместимым расам R. secalis , NIPI индуцирует некроз и накопление связанных с патогенезом белков PR-1, PR-5, PR-9 и PR-10. Он также способен вызывать некрозы на растениях ячменя, независимо от их генотипа, стимулируя Н+-АТФазную активность плазматической мембраны растительных клеток. Наряду с этим у вирулентных рас патогена он работает как обладающий токсичностью эффектор. Вариации биологических свойств NIPI зависят от его первичной структуры. Известны, по крайней мере, четыре изоформы NIP1, которые значительно различаются по своей биологической активности (119).
Многие штаммы-антагонисты у некоторых видов рода Trichoderma широко используются в сельскохозяйственной практике как агенты биоконтроля. Элиситорной активностью обладают гидрофобины — низкомолекулярные (менее 20 кДа) секретируемые гидрофобные белки грибов с консервативным мотивом из восьми остатков цистеина, образующих четыре дисульфидных связи. Так, элиситор Sm1 был обнаружен в культуральных фильтратах Trichoderma virens Gv29-8 (120). Авторы сообщают, что этот гид-рофобин-подобный белок имеет высокий процент гидрофобных остатков (40 %), включает четыре цистеина и три триптофана. Зрелый Sm1 с расчетной молекулярной массой 12,55 кДа и pI 5,78 состоит из 120 аминокислот и, по-видимому, подвергается посттрансляционной модификации, поскольку содержит сайты сульфатирования, фосфорилирования и N-гликозилирования. Sm1 не обладает фито- и фунгитоксичностью. В обработанных им растениях риса и семядолях хлопчатника он запускает локальные и системные ответы (генерацию АФК, экспрессию супероксиддисмутазы, образование оксилипинов, фитоалексинов, синтез PR-белков и повышение их активности) и препятствует колонизации возбудителем антракноза. Элиситорная активность также была обнаружена у двух других гидрофобинов из группы низкомолекулярных цистеин-содержащих белков грибов — EPL1 (12,6 кДа, pI 5,5-5,7) и EPLT4 (гомолог EPL1), продуцируемых соответственно T. at-roviride и T. asperellum (121, 122). Еще один гидрофобин с элиситорной активностью, названый HYTLO1, был получен из штамма T. longibrachiatum MK1 (123). Он полностью аналогичен белку HYTRA1 из T. harzianum T22 и представляет собой белок массой 7,2 кДа с восемью цистеиновыми остатками, расположенными, как и у других гидрофобинов, в консервативном мотиве. Наряду со способностью ингибировать рост некоторых микробов и активностью, стимулирующей рост растений, HYTLO1 служит сильным стимулятором защитных реакций растений. Его инфильтрация в листья томата приводит к развитию локальной и системной устойчивости к возбудителю серой плесени (B. cinerea) за счет СВЧ реакции, генерации окислительного взрыва в растительных клетках и усиления транскрипции или активности PR-белков (124).
Белки SCFE1 и PebC1 — неспецифические элисторы, продуцируемые соответственно фитоптогенными некротрофными грибами Sclerotinia sclerotiorum и B. cinerea (125, 127). SCFE1 — секретируемый белок, обнаруженный in vitro в культуральной жидкости, а PebC1 выделен из мицелия. Показано, что в растениях арабидопсиса SCFE1 распознается рецептор-по-добным белком RLP30 и, взаимодействуя с киназой BAK1, индуцирует характерные для PTI защитные ответы (125). Обработка проростков томата белком PebC1 (36 кДа, pI 4,85) повышала их устойчивость к патогену и приводила к увеличению в растительных тканях содержания ферментов, связанных с ее развитием (PAL и полифенолоксидаза), генерации АФК, а также стимулировала развитие корневой системы проростков пшеницы и их толерантность к засухе (29).
У фитопатогенных гемибиотрофов M. oryzae и Verticillium dahliae обнаружены соответственно элиситорные белки PemG1 (36 кДа, Ip 4,7) и PevD1 (около 16 кДа) (126, 127). PemG1 отличается термостабильностью и активирует СУ риса к M. oryzae , а также устойчивость риса и арабидопсиса к бактериальным инфекциям. В этих растениях он индуцирует сверхэкспрессию генов, контролирующих SA-зависимый путь передачи элиситор-ного сигнала, транзиторную экспрессию генов PR-белков, накопление АФК и OsPR-1a (маркер SAR риса), повышает активность целлюлазы и алкогольдегидрогеназы. Блокаторы кальциевых каналов предотвращают вызываемое PemG1 накопление OsPR-1a. Мутанты арабидопсиса, дефективные по JA/ET-зависимому сигналингу, после обработки PemG1 проявляют повышенную устойчивость к бактериальной инфекции, а мутанты с нарушенной трансдукцией сигнала по салицилатному пути, напротив, не реагируют на воздействие элиситора. Это свидетельствует о том, что PemG1 функционирует как активатор салицилат- и Ca2+-зависимого сигналина и элиситор SAR (127). Для того чтобы получить предсказанный белок PevD1 и подтвердить его элиситорные свойства, ген, кодирующий PevD1 у V. dahliae , был интродуцирован в Е. соli . Растения, обработанные рекомбинантным PevD1, приобретали СУ к ВТМ. В ответ на обработку элиситором культивируемых клеток табака происходило изменение ионного обмена, регистрируемое по подщелачиванию их суспензии. В обработанных растениях табака возрастала продукция перекиси водорода, отмечалось отложение каллозы, усиливался синтез фенолов и лигнина (128). V. dahliae секретирует также гликопротеины 65 кДа и 28 кДа, которые индуцируют синтез фитоалексина госсипола у культивируемых клеток хлопка. С помощью ферментативного протеолиза и перйодатного окисления углеводов показано, что за элиситорную активность этих гликопротеинов отвечает белковый компонент (7, 31).
Вид Alternaria tenuissima служит источником нескольких элиситор-ных белков, например индуктора SAR белка Hrip1, который вызывает СВЧ-гибель клеток табака и экспрессию генов, ассоциированных с СУ к ВТМ (129). Этот же вид продуцирует элиситоры PeaT1 и PeaT2. PeaT2 высокого- мологичен полифункциональным структурным мембранным белкам прохи-битинам. Помимо индукции устойчивости, он может стимулировать прорастание семян и рост корней пшеницы (130). PeaT1 представляет собой термостабильный кислый белок (Ip 4,22), выделенный из мицелия гриба, который, как и Hrip1, индуцирует СУ табака, но не вызывает реакции СВЧ. С помощью экспрессии в Е. соli был получен рекомбинантный PeaT1 (около 22,6 кДа). Биоинформационный анализ его структуры показал, что PeaT1 — консервативный белок патогенов растений, который содержит домен UBA, ассоциированный с убиквитином. Мотив UBA, состоящий примерно из 45 аминокислотных остатков, присутствует в различных белках, участвующих в передаче клеточных сигналов через рецептороподобные протеинкиназы. PeaT1, лишенный UBA-домена, не способен индуцировать СУ. Данные о структуре сигнального пептида этого элиситора позволяют предположить, что он поступает в эндоплазматический ретикулум, а не в апопласт растений. Есть также доказательства существования сайтов связывания белковой природы для PeaT1 на плазматической мембране табака, которые могут передавать сигналы в цитоплазму растительных клеток, вызывая SAR (131).
Недавно открытые МАМРs / PAMPs и ETI-элисторы грибов . За последнее время у гемибиотрофа B. sorokiniana был обнаружен ген, кодирующий новый эффектор CsSP1 (малый белок с предсказанной молекулярной массой 25,9 кДа и Ip 8.84), который секретируется этим патогеном во время инфекции. Аминокислотная последовательность CsSP1 имеет сходство с последовательностями индицирующих некроз и продукцию ET специфических Nep-элиситоров других грибов (32, 119). Этот эффектор необходим патогену для инфицирования, преодоления PTI и успешного развития в растениях пшеницы. В то же время он действует как элиситор, запускающий ETI в растении-хозяине. К новым элиситорам относится также малый белок PeSy1 (11 кДа), который обнаружен у актиномицета Saccharothrix yanglingensis Hhs.015 — эндофита, повышающего устойчивость растений к патогенам. Установлено, что PeSy1 активно индуцирует реакцию СВЧ, а рекомбинантный белок PeSy1 вызывает ранние защитные ответы (генерация АФК, отложение каллозы) и трансдукцию элиситорного сигнала. Это приводит к повышению устойчивости табака ( N. benthamiana ) к S. sclero-tiorum и P. capsici , а также устойчивости томата к P. syringae pv. tomato . PeSy1 взаимодействует со специфической, ранее не известной рецептороподобной цитоплазматической киназой RSy1 (Response to PeSy1). Эти результаты и способность PeSy1 усиливать экспрессию маркерных генов PTI позволяют предполагать, что он действует как элиситор МАМР-типа (132). Новые эффекторы — ортологи Ecp ( С. fulvum ) обнаружены также у поражающего сосновые деревья гриба Dothistroma septosporum . Некоторые из белков вызывают реакцию СВЧ и способствуют развитию устойчивости в растениях, не являющихся хозяевами патогена (133). Наконец, совсем недавно у одного из возбудителей фузариоза колоса пшеницы Fusarium graminearum были найдены два новых белка — Fg02685 и Fg62, которые необходимы грибу для колонизации и секретируются в апопласт во время инфицирования растений патогеном (134, 135).
Малый белок Fg02685 идентифицирован как новый РАМР грибов. У табака ( N. benthamiana ) он вызывает защитные ответы, типичные для PTI, а именно СВЧ-гибель клеток, экспрессию ассоциированных с неспецифической устойчивостью генов растения, активацию МАР-киназного сигнального каскада, накопление АФК и каллозы. В распознавании Fg02685 не участвуют рецептороподобные киназы BAK1 и SOBIR1, а за его способ-804
ность вызывать СВЧ отвечает консервативный α -спиральный мотив N-термнальной области белковой молекулы. Элиситорная активность Fg02685 обусловлена 32-аминокислотным N-концевым фрагментом этого мотива — пептидом FgNP32, под воздействием которого повышается устойчивость растений к видам Fusarium и Phytophthora . Интересно, что гомологи Fg02685 часто встречаются у ржавчинных грибов ( Puccinia spp.) и других микромице-тов, а также среди видов Phytophthora и других оомицетов (136). Fg62 вызывает устойчивость N. benthamiana к P. capsici. За его СВЧ-индуцирующую активность ответствен сигнальный пептид. Этот белок не имеет консервативных цистеиновых доменов, но содержит 7 остатков цистеина. У N. ben-thamiana он индуцирует экспрессию двух PTI-маркерных генов. По-види-мому, Fg62 относится к орфанным белкам; гомологичные ему последовательности обнаружены пока только у F. culmorum и F. pseudograminearum (136).
Элиситоры оомицетов. Элиситины . Элиситины — это малые (около 10 кДа) гидрофильные белки Phytophthora , Pythium и некоторых других оомицетов, высококонсервативные в переделах семейства Pythiaceae . Они убедительно охарактеризованы как PAMPs. Все элиситины могут связывать стерины, поэтому принято считать, что оомицеты, не способные самостоятельно синтезировать эти метаболиты, используют элиситины как транспортеры растительных стеринов в свою клетку, в том числе для встраивания их в мембраны зооспор. Однако эти белки не относятся к эффекторам оомицетов. Более того, виды Pythiaceae продуцируют ряд эффекторов, чтобы нивелировать активность элиситинов, для проявления которой сте-рин-связывающая способность не является решающей, но, увеличивая текучесть плазмалеммы инфицированных растительных клеток, вероятно, может вносить вклад в передачу сигналов и индуцированную генерацию АФК (137-139). Некоторые авторы предлагают рассматривать элиситины как факторы авирулентности, связанные с устойчивостью на видовом уровне, которые представляют собой промежуточное звено между РАМР и специфическими элиситорами (140).
Элиситины были открыты еще в конце 1980-х годов как элиситоры реакции СВЧ у табака, зараженного P. cryptogea или P. capsici, но продолжают интенсивно изучаться до сих пор. Наиболее детально они исследованы у P. cryptogea, P. capsici, P. parasitica, P. megasperma и P. infestans и известны под названиями соответственно криптогеин (cryptogein, CRY), кап-сицин (сapsicin, CAP), паразитицеин (parasiticin, PAR), мегаспермин и INF1. Всего в настоящее время проанализировано 100 последовательностей этих белков (139). На основании особенностей первичной структуры их подразделяют на несколько классов и на кислые (α) и щелочные (β) белки, а по кодирующим генами — на истинные элиситины (elicitins, ELI) и элиситин-подобные (elicitin like proteins, ELL) белки, образующие филогенетические клады, которые у разных видов неодинаковы по своей СВЧ-индуцирующей активности (138, 140). В результате всесторонних исследований ELI- и ELL-белков определена их структура и получена информация о процессе их рецепции и роли во взаимоотношениях оомицетов с растениями (138, 140). Установлено, что все элиситины содержат сигнальный пептид; высококонсервативный домен, состоящий из 98 аминокислот, среди которых присутствуют 6 не варьирующих остатков цистеина, формирующих 3 дисульфидных мостика; вариабельные С-концевые последовательности. Как правило, С-концевые домены ELI- и ELL-белков (за исключением клады ELI-1) обогащены треонином, серином и пролином (138). Исследование трехмерной структуры β-CRY и других элиситинов из клады ELI-1 показало, что их консервативные домены образованы пятью α-спиралями, одним β-антипа-раллельным листом и одной ω-петлей (137). Предполагают, что ELI секретируются во внеклеточное пространство, в то время как некоторые ELL-белки, вероятно, заякорены в плазматической мембране (в том числе, в мембране подвижных зооспор) и клеточной стенке оомицетов (141).
Как и многие другие МАМРs/PAMPs, элиситины распознаются PRR, в том числе такими рецептороподобными киназами, как SERK3/BAK1, относящимся к основным рецепторам микробных элиситоров PTI (139), а также могут непосредственно или опосредовано взаимодействовать со специфическими R-рецепторами элиситоров (140). Рецепторы элиситинов, вероятно, узнают их консервативный домен. Установлено, что специфическая область ω -петли содержит в позиции 41 высококонсервативный остаток лейцина, важный для восприятия элиситинов разными видами растений (141).
Растения, которые отвечают на воздействие элиситинов развитием локальной реакции СВЧ или SAR, принадлежат к различным семействам. Так, кроме табака, защитный эффект элиситинов продемонстрирован на томате, перце, картофеле, турнепсе, репе и редьке, горохе, а также для виноградной лозы, цитрусовых и саженцев дуба, причем ответная реакция различалась у разных таксонов и у разных растений в пределах одного таксона (139). В индуцировании СВЧ ответа и некрозообразовании ключевую роль играет наличие остатков лизина или валина в положении 13 и лизина в положении 39, a SAR-индуцирующая активность элиситинов становится результатом комбинации нескольких особенностей первичной структуры, включая общий поверхностный заряд и наличие специфических остатков лизина (138).
Обработка растений элиситинами пред инокуляцией повышает устойчивость к патогенным для них видам оомицетов, а также к другим патогенам, в том числе к возбудителям бактериальных болезней (138-142).
Как и многие другие индукторы устойчивости, элиситины вызывают ранние защитные ответы растений: обратимый сдвиг экстрацеллюлярного рН (139) и взрывообразную генерацию АФК, связанную с активацией растительных NADPH-оксидазы и МАР-киназного каскада. Однако, за исключением Nicotiana spp. и некоторых видов Solanum , индуцированный элиси-тинами окислительный взрыв не всегда приводит к СВЧ-гибели клеток и образованию некрозов, а иногда СВЧ ответ развивается под влиянием характерного для элиситинов более позднего всплеска АФК (138, 139) с фосфорилированием МАР-киназ и длительным повышением их активности (140). Первоначально SA-опосредованное развитие SAR и накопление PR-белков считались основными результатами воздействия элиситинов на растения (142). Однако позже было обнаружено, что обработка томата INF1 и β-CRY или ELL-белком из непатогенного Pythium oligandrum индуцирует устойчивость растений к бактериальному увяданию, мучнистой росе и P. parasitica , активируя характерный для ISR JA/ET-зависимый путь передачи элиситорного сигнала и экспрессию генов PR-белков (138, 139, 142). Таким образом, элиситины могут рассматриваться как эффективные элиситоры неспецифической СУ, запускающие как SA-зависимый, так и JA/ET-зависимый сигналинг.
Другие элиситоры оомицетов. Помимо элиситинов, у видов Pythiaceae известны такие элиситорные белки и пептиды, как Pep-13, PB90, PaNie 213 , CBEL.
Пептид Pep-13 представляет собой мотив из 13 аминокислот, ответственный за элиситорную активность обнаруженного в клеточной стенке
P. sojae белка GP42 (42 кДа) из семейства трансглютаминаз, а CBEL — это лектин фитофторовых, связывающий целлюлозу и участвующий в адгезии к клеткам растений (7). Pep-13 высококонсервативен у видов Phytophthora и характеризуется высокой активностью. Он индуцирует типичные для PTI защитные ответы клеток картофеля и петрушки в крайне низких концентрациях (около 1 нМ) (143). Мутации, изменяющие состав Pep-13, лишают его как элиситорной, так и трансглюкоминазной активности (143). PaNie 213 из P. aphanidermatum способен вызывать СВЧ у арабидопсиса и других растений. Зрелый белок (25 кДа) состоит из 213 аминокислотных остатков, синтезируется как 234-аминокислотный предшественник с сигнальным пептидом и имеет сайт расщепления протеиназой. Он индуцирует синтез de novo 4-гидроксибензойной кислоты в культивируемых клетках моркови, образование каллусов у арабидопсиса и некроз листьев табака и томатов (144). Сходный с PaNie элиситорный белок был выделен из P. megasperma f. sp. glycinea , P. infestans и P. parasitica (145). Белок PB90 (90 кДа) выделен из культурального фильтрата возбудителя фитофтороза хлопка P. boehmeriae . Его инфильтрация в листья табака, не хозяина этого патогена, вызывает реакцию СВЧ, индуцирует синтез АФК (H 2 O 2 ), накопление SA и повышение активности защитных ферментов — пероксидазы (POD) и PAL (32). Сообщается также, что в культуральном фильтрате возбудителя фитофтороза колоказии ( Colocаsia esculеnta ) P. colocasiae был обнаружен гликопротеин (15 кДа), который структурно сходен с некоторыми элиситинами; за его способность индуцировать повышение активности POD, PAL и липоксигеназы ответствен полипептидный фрагмент (145).
Микробные ферменты, обладающие свойствами элиситоров. При инфицировании растений некротрофные патогены выделяют различные ферменты, которые разрушают целлюлозные и гемицеллюлозные компоненты растительной клеточной стенки, чтобы обеспечить доступность питательных веществ. Некоторые из ферментов распознаются растениями и действуют как элиситоры защитных ответов, причем способность этих ферментов индуцировать устойчивость в подавляющем большинстве случаев не связана с их энзиматической активностью.
Как примеры ферментов-элиситоров наиболее известны ксиланазы грибов и бактерий. Так, хорошо охарактеризована индуцирующая биосинтез ET эндоксиланаза EIX из T. viride. При ее инфильтрации в листья томата или табака происходит развитие ранних и поздних защитных ответов (СВЧ, генерация АФК и экспрессия генов PR-белков, синтез фиоалексинов) (146). Установлено, что EIX распознается растениями томата как МAMP и связывается рецепторами LRR-типа — LeEix1 и LeEix2; реакцию СВЧ и продукцию ET инициирует только контакт с LeEix2, а LeEix1 действует как рецептор-приманка (147). Фермент синтезируется как предшественник (25 кДа) и подвергается посттрансляционному гликозилированию. Гриб секретирует зрелый белок (22 кДа), обогащенный глицином, серином, тирпто-фаном, тирозином и треонином и не содержащий лизина, аланина, лейцина и глутамина. Мутантные формы EIX, утратившие эндоглюконазную активность, сохраняют способность индуцировать СВЧ. Защитные ответы растений вызывают также ксиланаза II из T. reesei и ксиланазы F. graminearum (148). Элиситорная активность ксиланазы приписывается последовательности TKLGE, в которой замена концевых остатков треонина (T) и глутамата (E) соответственно на валин и треонин приводит к потере защитных свойств EIX. У эндоксилоназы Xyn11A из B. cinerea за элиситорную активность отвечает пептид из 25 остатков (Xyn25), который вызывает СВЧ и индуцирует экспрессию ряда защитных генов (149). В свою очередь, для проявления защитной активности этого пептида необходима короткая консервативная последовательность из 4 аминокислот, но не его каталитическая активность (146).
Эндоцеллюлаза EG1, выделенная из R. solani , содержит белок, предположительно состоящий из 227 аминокислот, с сигнальным пептидом и доменом гликозилгидролазы. С помощью замены остатка аспарагиновой кислоты в положении 32 на аланин был получен каталитически неактивный фермент, который затем был экспрессирован в дрожжах и очищен до гомогенности. Эта рекомбинантная EG1 (rEG1), лишенная ферментативной активности, полностью сохраняла свойства элиситора. Она индуцировала гибель клеток в листьях кукурузы, табака и арабидопсиса, а также усиливала экспрессию генов маркеров SAR и ряда защитных ферментов и PR-белков у кукурузы и табака (PR1a, POD, PAL, хитиназы, β-1,3-глюконазы и др.). Кроме того, rEG1 вызывала накопление АФК, обратимый сдвиг эстрацел-люлярного рН в щелочную сотрону, накопление ионов Са2+ и биосинтез этилена в суспензии культивируемых клеток табака. В опытах с заражением растений кукурузы R. solani СВЧ - гибель клеток также была связана с экспрессией EG1 (150).
Белок MF3 (microbial factor 3, 16,9 кДа) был выделен из культуральной жидкости и клеточного гомогената P. fluorescens . Этот белок способен индуцировать в растениях СУ широкого спектра действия против вирусов, грибов и нематод (151). Он был идентифицирован как пептидил-пролил-цис/транс-изомераза, причем за ее элиситорную активность отвечает фрагмент, входящий в консервативную область фермента и состоящий из 29 аминокислотных остатков (IIPGLEKALEGKAVGDDLEVAVEPEDAYG). Пептид сохраняет защитные свойства полноразмерного белка (151) и может вызывать накопление SA в обработанных им листьях табака, возможно, в результате усиления экспрессии гена изохоризматсинтазы, которая катализирует синтез SA.
Гликопротеины и пептидогликаны. Гликопротеины (ГП) образуются в результате посттрансляционного гликозилирования белков и регулируют несколько биологических процессов, жизненно важных для микроорганизмов. Фитопатогенные грибы секретируют некоторые из ГП при заражении растений, используя их в качестве эффекторов, способствующих вирулентности. Углеводная часть молекулы таких эффекторов регулирует их стабильность, активность, конформационную укладку, целевой транспорт и клеточную локализацию (152), но может также определять эф-фекторную/элиситорную активность микробных ГП. Так, секретируемый M. oryzae ГП Slp1 (синоним LysM 1) связывает хитин и препятствует взаимодействию этого PAMP с его рецептором в клетках риса (CEBiP), причем подобным образом действует только гликозилированный белок. Неглико-зилированный Slp1 склонен к быстрой деградации, поэтому несвязавшийся хитин становится снова доступным для CEBiP и запускает защитный ответ (153). Фракции ГП из клеточных стенок и культурального фильтрата P oli-gandrum , способные вызывать у пшеницы и сахарной свеклы экспрессию генов устойчивости к фитопатогенам и накопление связанных с ней ферментов, утрачивали эту способность после автоклавирования или ферментативного протеолиза. В то же время перйодат, атакующий углеводный фрагмент ГП, не влиял на элиситорную активность этих фракций (154).
Отдельную группу элисторов из разряда сложных белков представляют пептидогликаны бактерий. Поскольку клеточной стенки почти всех их видов содержат пептидогликан, растения распознают его как неспецифический элиситор. В частности, показано, что у арабидопсиса, табака и риса этот бактериальный РАМР активирует такие ранние защитные ответы, как увеличение концентрации ионов кальция в цитоплазме и генерация АФК (155).
Эффекторы фитовирусов. Взаимодействие между вирусами и растениями служит удобной моделью для изучения молекулярных механизмов противовирусного фитоиммунитета. Внедрение вирусных частиц в растительные клетки запускает механизмы защиты, в том числе СВЧ, приводящие к быстрой изоляции патогена в клетках устойчивых к нему растений. В этих процессах участвуют малые интерферирующие РНК, подавляющие или нарушающие синтез нуклеиновых кислот вируса, препятствуя его репликации. В процессе эволюции фитовирусы приобрели способность синтезировать специфические эффекторы — супрессоры РНК-интерференции (viral suppressors of RNA silencing, VSR), основная роль которых заключается в подавлении РНК-интерференции (RNAi). Было показано, что VSR вызывают сайленсинг растительных генов и таким образом позволяет вирусам преодолевать PTI (156). VSR, как и другие продукты экспрессии вирусных генов с разнообразными функциями, распознаются рецепторными R-белками растений, что приводит к сайленсингу вирусных РНК.
Так, растения табака вида N. glutinosa имеют набор белков, вызывающих РНК-сайленсинг фитопатогенных вирусов. У полеровирусов, способных поражать этот вид, обнаружен белок PO, функционирующий как VSR. Мишенью PO служит продукт гена ARGONAUTE1 AGO1, растительный белок, каталитический компонент RISC (RNA-induced silencing complex, белковый комплекс, обеспечивающий сайленсинг генов по механизму RNAi) (157). Отмечено, что действие других VSR также направлено на AGO1. Например, его деградацию вызывает P25 Х-вируса картофеля, что приводит к подавлению СВЧ ответа у N. glutinosa .
RNAi-ингибирующие свойства PO разных изолятов полеровирусов зависят от внутривидовых различий его структуры. Так, при сравнении су-прессирующей активности PO из двух разных изолятов вируса желтой карликовости злаковых (CYDV-RPV, cereal yellow dwarf Polerovirus , сем. Luteo-viridae ) было установлено, что присутствие пролина в С-терминальной области снижает стабильность этого белка и отрицательно влияет на его супрессорную активность. Вероятно, высокая конформационная жесткость пролина способствует структурной дестабилизации белковой молекулы, которая усиливается при повышении температуры. Замена пролина на другие аминокислоты, например на серин, улучшает структурную стабильность PO (158). Именно такая замена найдена у некоторых природных изолятов по-леровирусов, успешно поражающих злаки. Обнаружено также, что мутация, приводящая к замене С-концевого проксимального пролина на серин в PO с низкой супрессорной активностью из изолята CYDV-RPV, слабо поражающего растения при повышенной температуре, восстанавливает активность этого белка (156-158). Интересно, что в природных популяциях полерови-русов спонтанно возникают мутанты, в которых пролин замещен серином. Для индукции СВЧ ответа растений необходим полноценный функциональный белок PO. VSR мутанты с аминокислотными заменами в мотиве F-box этого белка утрачивали супрессирующую активность и, как следствие, не могли вызывать СВЧ. Сохранение структуры белкового мотива F-box, по-видимому, важно для способности РО вызывать деградацию белка AGO1, которая приводит к нарушению механизма сайленсинга РНК.
При исследовании взаимодействия растений N. glutinosa с вирусом желтухи турнепса (turnip yellow virus, TuYV) и вирусом скручивания листьев картофеля (potato leaf roll virus, PLRV) было установлено, что устойчивость этого вида к указанным полеровирусам, а также к вирусу желтухи тыквенных (cucurbit aphid borne yellows virus, CABYV) связана со способностью белков PO TuYV (POTu), PLRV (POPL) и CABYV (POCA) вызывать реакцию СВЧ у сорта TW59, тогда как растения других сортов этого вида распознают только POPL из PLRV (159). Генетический анализ показал, что у N. glutinosa за способность узнавать POTu ответствен ген устойчивости RPO1 (resistance to poleroviruses 1), который наследуется как доминантный аллель. У многих фитовирусов идентифицированы белки-эффекторы, которые, как и РО, проявляют RNAi-ингибирующие свойства, подавляя защитный сайленсинг вирусных РНК в инфицированных растениях, поэтому сайленсинг считается основным механизмом ETI к этим патогенам.
Перспективы использования элиситорных белков микроорганизмов в сельском хозяйстве и примеры защитных препаратов, разработанных на их основе. В связи с разнообразием микробных белков, которые могут быть восприняты растениями как элиситоры, вызывающие в низких дозах быстрое развитие ответных реакций, активирующих общую или расоспецифическую СУ растений и приводящих к длительной защите от фитопатогенов, исследователи стремятся оценить возможности применения этих элиситоров для повышения урожайности сельскохозяйственных культур (26, 160-162). Например, эффективность защитного действия белков-элиситоров из FS-94 подтверждена данными трехлетних полевых испытаний. Показано, что предпосевная обработка семян яровой пшеницы приводит к значительному снижению распространенности и ослаблению симптомов фузариозной и гельминтоспо-риозной корневых гнилей в течение всего вегетационного периода, способствуя увеличению урожая (116). С практической точки зрения привлекательность белковых элиситоров также связана с тем, что некоторые из них повышают устойчивость растений к абиотическому стрессу и оказывают положительное влияние на их рост и развитие . В целом, перспективы включения элиситоров в экологически безопасные сценарии защиты сельскохозяйственных культур от болезней, основанные на стимулировании активного фитоиммунитета, представляются весьма обнадеживающими. Однако эта область исследований по-прежнему остается относительно новой и недостаточно востребованной. Пока известно лишь небольшое число белков-элиситоров и созданных на их основе коммерческих препаратов, которые нашли широкое практическое применение.
Первым препаратом на основе белкового элиситора, внедренным в практику сельскохозяйственного производства, был харпин. Под торговым названием Messenger к 2000 году он был зарегистрирован в США компанией «Eden Biotechnology Company» и разрешен к использованию на всех культурах. Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency) в 2001 году присудило препарату премию «Presidential Green Chemistry Challenge» в области защиты растений и безопасности сельскохозяйственной продукции. Препарат использовался для защиты посевов табака, овощей и фруктов в США, Мексике, Испании и других странах. Messenger также получил временную регистрацию в Китае, а с 2007 года было разрешено его использование на томате, перце, табаке и рапсе.
В 2008 году лицензию на производство харпина приобрела китайская фирма «Dora Agri», которая наладила на его основе производство препарата Dora Immune . В течение последних пяти лет препарат поставляется на китайский рынок, а также на рынки стран Центральной и Южной Америки и Западной Европы. Его предлагается использовать в качестве фактора оздоровления растений, который активирует иммунную систему и влияет на экспрессию генов, ответственных за рост и активацию защитных реакций. Препарат Dora Immune используется для обработки семенного материала, корневой системы и листьев и разрешен к применению на яблоне, сливе, киви, нектарине, авокадо, манго, цитрусовых, вишни, винограда, конопли, табака и некоторых других растениях. По утверждению фирмы-производителя, обработка растений этим препаратом приводит к увеличению урожайности и улучшению качества продукции, повышает защиту от болезней, увеличивает срок хранения фруктов на 5-7 сут, а их сахаристость — на 10-25 %. Однако такая эффективность достигается лишь при условии использования рабочего раствора, приготовленного не более чем за 6 ч до опрыскивания, а в случае семенного материала — если он обработан не более чем за 30 мин до высадки в почву. Кроме того, при совместном применения с препаратами, содержащими соли тяжелых металлов, эффективность обработок может заметно снижаться, поскольку последние адсорбируют белок, препятствуя его контакту с рецепторами растений.
Другим убедительным примером успешного внедрения в сельскохозяйственную практику белковых элиситоров может служить белок PeaT1 из A. tenuissima (129, 130), который также продуцирует вид A . alternata (160). В 2014 году Институт защиты растений Китая зарегистрировал в Китае PeaT1 в качестве действующего вещества защитного препарата с иммуностимулирующим действием, получившим коммерческое название ATaiLing (160). Его производством занимается китайская компания «Zhongbao Chemicals Co., Limited». Показано, что ATaiLing способен ингибировать экспрессию вирусных генов и репарировать патологические изменения в пораженных вирусами растительных тканях. В то же время ATaiLing вызывает множественную защитную реакцию растений против насекомых-вредителей. Препарат эффективен против болезни полосатости риса, вируса желтой курчавости листьев томата, вируса табачной мозаики. Важно подчеркнуть, что он обеспечивает защиту против одной из наиболее вредоносных болезней цитрусовых Huanglongbing (болезнь озеленения цитрусовых, или пиньинь), вызываемой Candidatus Liberibacter. В связи с высокой эффективностью препарата объем его продаж с момента выхода на рынок достиг 200 т в год с годовой прибылью 70 млн юаней. На сегодняшний день Atailing применяется на 5 млн га посевных площадей в Китае. Ряд агрохимических компаний ведут переговоры о возможности использования препарата в Америке и Западной Европе. В настоящее время компания «Алтбиотех» проводит в России регистрацию биопрепарата на основе пептидил-пролил цис/транс-изо-меразы (MF3), элиситорные свойства которой впервые были обнаружены и изучены во Всероссийском НИИ фитопатологии (151). Структура и элиси-торные функции белка были запатентованы в России и в ряде стран Европы, Азии и США (162). Испытания препарата на основе MF3 в трех различных агроклиматических зонах показали его антивирусную эффективность на производственных посадках картофеля, способность улучшать физиологическое состояние растений и возможность повышения урожая, а токсикологические испытания — отсутствие острой токсичности для лабораторных животных. Перспективным в качестве биоконтролирующего агента также может быть белковый элиситор AMEP412 из B. subtilis , индуцирующий системную устойчивость к бактериям (163).
Таким образом, индуцированная устойчивость к болезням становится привлекательной альренативой использования химических пестицидов в защите растений. Индуцированный ответ активируется элиситорами, в том числе белковой природы, которые распознаются различными рецепторами, управляют несколькими сигнальными путями растений и вызывают у них разнообразные защитные ответы. Несмотря на то, что в настоящее время известно большое число специфических и неспцифических биогенных элиситоров, лишь некоторые из них на практике используются для защиты сельскохозяйственных культур. В то же время широкий арсенал элиситор-ных белков микроорганизмов, непрекращающийся интенсивный поиск новых микробных белков, активирующих фитоиммунитет, и использование инновационных методов их скрининга позволяют предполагать, что будут выявлены новые белки-элиситоры, на основе которых могут быть разработаны препараты для защиты сельскохозяйственных растений.
Список литературы Микробные белки - элиситоры устойчивости растений к фитопатогенам и их потенциал для экологически ориентированной защиты сельскохозяйственных культур
- Nelson R., Wiesner-Hanks T., Wisser R., Balint-Kurti P. Navigating complexity to breed disease-resistant crops. Nat. Rev. Genet., 2018, 19(1): 21-33 (doi: 10.1038/nrg.2017.82).
- Food and Agriculture Organization. New standards to curb the global spread of plant pests and diseases. Режим доступа: https://www.fao.org/news/story/en/item/1187738/icode/. Дата обращения: 28.05.2023.
- Hawkins N.J., Bass C., Dixon A., Neve P. The evolutionary origins of pesticide resistance. Biol. Rev., 2019, 94(1): 135-155 (doi: 10.1111/brv.12440).
- Fisher M.C., Hawkins N.J., Sanglard D., Gurr S.J. Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges human health and food security. Science, 2018, 360(6390): 739-742 (doi: 10.1126/science.aap7999).
- Stuthman D.D., Leonard K.J., Miller-Garvin J. Breeding crops for durable resistance to disease. Advances in Agronomy, 2007, 95: 319-367 (doi: 10.1016/s0065-2113(07)95004-x).
- Conrath U., Beckers G. J., Flors V., Garcia-Agustin P., Jakab G., Mauch F., Newman M.-A., Pieterse C.M.J., Poinssot B., Pozo M.J., Pugin A., Schaffrath U., Ton J., Wendehenne D., Zimmerli L., Mauch-Mani B. Priming: getting ready for battle. MPMI, 2006, 19(10): 1062-1071 (doi: 10.1094/MPMI-19-1062).
- Wiesel L., Newton A.C., Elliott I., Booty D., Gilroy E.M., Birch P.R.J., Hein I. Molecular effects of resistance elicitors from biological origin and their potential for crop protection. Front. Plant Sci., 2014, 21(5): 655 (doi: 10.3389/fpls.2014.00655).
- Klessig D.F., Choi H.W., D’Maris D.A. Systemic acquired resistance and salicylic acid: past, present, and future. MPMI, 2018, 31(9): 871-888 (doi: 10.1094/MPMI-03-18-0067-CR).
- Conrath U. Molecular aspects of defence priming. Trends in Plant Science, 2011, 16(10): 524-531 (doi: 10.1016/j.tplants.2011.06.004).
- Pastor V., Luna E., Mauch-Mani B., Ton J., Flors V. Primed plants do not forget. Environmental and Experimental Botany, 2013, 94: 46-56 (doi: 10.1016/j.envexpbot.2012.02.013).
- Vlot A.C., Pabst E., Riedlmeier M. Systemic signalling in plant defence. In: eLS. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2017.
- Andersen E.J., Ali S., Byamukama E., Yen Y., Nepal M.P. Disease resistance mechanisms in plants. Genes, 2018, 9(7): 339 (doi: 10.3390/genes9070339).
- Kamle M., Borah R., Bora H., Jaiswal A.K., Singh R.K., Kumar P. Systemic acquired resistance (SAR) and induced systemic resistance (ISR): role and mechanism of action against phytopathogens. In: Fungal biotechnology and bioengineering /A.L. Hesham, R. Upadhyay, G. Sharma, C. Manoharachary, V. Gupta (eds.). Springer, Cham, 2020.
- Jones J.D., Dangl J.L. The plant immune system. Nature, 2006, 444(7117): 323-329 (doi: 10.1038/nature05286).
- Newman M.A., Sundelin T., Nielsen J.T., Erbs G. MAMP (microbe- associated molecular pattern) triggered immunity in plants. Front. Plant Sci., 2013, 4: 139 (doi: 10.3389/fpls.2013.00139).
- Abdul Malik N.A., Kumar I.S., Nadarajah K. Elicitor and receptor molecules: orchestrators of plant defense and immunity. Int. J. Mol. Sci., 2020, 21(3): 963 (doi: 10.3390/ijms21030963).
- Medina-Puche L., Rufián J.S. Role of receptor-like kinases in plant-pathogen interaction. In: Plant receptor-like kinases /S.K. Upadhyay, Shumayla (еds.). Academic Press, Cambridge, 2023. (doi: 10.1016/B978-0-323-90594-7.00014-4).
- Meng X., Zhang S. MAPK cascades in plant disease resistance signaling. Annual Review of Phytopathology, 2013, 51: 245-266 (doi: 10.1146/annurev-phyto-082712-102314).
- Kadota Y., Shirasu K., Zipfel C. Regulation of the NADPH oxidase RBOHD during plant immunity. Plant and Cell Physiology, 2015, 56(8): 1472-1480 (doi: 10.1093/pcp/pcv063).
- Yuan P., Tanaka K., Du L., Poovaiah B.W. Calcium signaling in plant autoimmunity: a guard model for AtSR1/CAMTA3-mediated immune response. Molecular Plant, 2018, 11(5): 637-639 (doi: 10.1016/j.molp.2018.02.014).
- Zhang Y., Li X. Salicylic acid: biosynthesis, perception, and contributions to plant immunity. Current Opinion in Plant Biology, 2019, 50: 29-36 (doi: 10.1016/j.pbi.2019.02.004).
- Zhong C.-L., Zhang C., Liu J.-Z. Hetero-trimeric G protein signaling in plant immunity. Journal of Experimental Botan, 2018, 70(4): 1109-1118 (doi: 10.1093/jxb/ery426).
- Dodds P.N., Rathjen J.P. Plant immunity: towards an integrated view of plant—pathogen interactions. Nat. Rev. Genet., 2010, 11(8): 539-548 (doi: 10.1038/nrg2812).
- Pruitt R.N., Gust A.A., Nürnberger T. Plant immunity unified. Nature Plants, 2021, 7(4): 382-383 (doi: 10.1038/s41477-021-00903-3).
- Remick B.C., Gaidt M.M., Vance R.E. Effector-triggered immunity. Annual Review of Immunology, 2023, 41: 453-481 (doi: 10.1146/annurev-immunol-101721-031732).
- Mejía-Teniente L., Torres-Pacheco I., González-Chavira M.M., Ocampo-Velazquez R.V., Herrera-Ruiz G., Chapa-Oliver A.M., Guevara-González R.G. Use of elicitors as an approach for sustainable agriculture. African Journal of Biotechnology, 2010, 9(54): 9155-9162.
- Naito K., Taguchi F., Suzuki T., Inagaki Y., Toyoda K., Shiraishi T., Ichinose Y. Amino acid sequence of bacterial microbe-associated molecular pattern flg22 is required for virulence. МPMI, 2008, 21(9): 1165-1174 (doi: 10.1094/MPMI-21-9-1165).
- Zipfel C. Early molecular events in PAMP-triggered immunity. Current Opinion in Plant Biology, 2009, 12(4): 414-420 (doi: 10.1016/j.pbi.2009.06.003).
- Wang B., Yang X., Zeng H., Liu H., Zhou T., Tan B., Yuan J., Guo L., Qiu D. The purification and characterization of a novel hypersensitive-like response-inducing elicitor from Verticillium dahliae that induces resistance responses in tobacco. Appl. Microbiol. Biotechnol., 2012, 93(1): 191-201 (doi: 10.1007/s00253-011-3405-1).
- Xu Y., Chen H., Zhou X., Cai X. Induction of hypersensitive response and nonhost resistance by a Cladosporium fulvum elicitor CfHNNI1 is dose-dependent and negatively regulated by salicylic acid. Journal of Integrative Agriculture, 2012, 11(5): 1665-1674 (doi: 10.1016/S2095-3119(12)60169-5).
- Mishra A.K., Sharma K., Misra R.S. Elicitor recognition, signal transduction and induced resistance in plants. Journal of Plant Interactions, 2012, 7(2): 95-120 (doi: 10.1080/17429145.2011.597517).
- Erbs G., Newman M.A. The role of lipopolysaccharide and peptidoglycan, two glycosylated bacterial microbe-associated molecular patterns (MAMPs), in plant innate immunity. Molecular Plant Pathology, 2012, 13(1): 95-104 (doi: 10.1111/j.1364-3703.2011.00730.x).
- Albert M. Peptides as triggers of plant defence. Journal of Experimental Botany, 2013, 64(17): 5269-5279 (doi: 10.1093/jxb/ert275).
- Boller T., He S.Y. Innate immunity in plants: an arms race between pattern recognition receptors in plants and effectors in microbial pathogens. Science, 2009, 324(5928): 742-744 (doi: 10.1126/science.1171647).
- Тютерев С.Л. Экологически безопасные индукторы устойчивости растений к болезням и физиологическим стрессам. Вестник защиты растений, 2015, 1(83): 3-13.
- Хавкин Э.Е. Молекулярный диалог растений с патогенами: эволюция, механизмы и практическое использование. Физиология растений, 2021, 68(2): 115-131 (doi: 10.31857/S001533032102007X).
- Попова Э.В., Домнина Н.С., Сокорнова C.В., Коваленко Н.М., Тютерев С.Л. Инновационные гибридные иммуномодуляторы растений на основе хитозана и биоактивных антиоксидантов и прооксидантов. Сельскохозяйственная биология, 2021, 26(1): 158-170 (doi: 10.15389/agrobiology.2021.1.158rus).
- Славохотова А.А., Шеленков А.А., Андреев Я.А., Одинцова Т.И. Гевеиноподобные антимикробные пептиды растений. Успехи биологической химии, 2017, 57: 209-244.
- Щербакова Л.А., Джавахия В.Г. Микробные белки и пептиды, представляющие интерес для разработки экологически безопасных технологий защиты растений от фитопатогенов. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2013, 15(3-5): 1705-1709.
- Ayliffe M., Sørensen C. Plant non-host resistance: paradigms and new environments. Current Opinion in Plant Biology, 2019, 50: 104-113 (doi: 10.1016/j.pbi.2019.03.011).
- Guo J., Cheng Y. Advances in fungal elicitor-triggered plant immunity. Int. J. Mol. Sci., 2022, 23(19): 12003 (doi: 10.3390/ijms231912003).
- Gómez-Gómez L., Boller T. Flagellin perception: a paradigm for innate immunity. Trends in Plant Science, 2002 7(6): 251-256 (doi: 10.1016/s1360-1385(02)02261-6).
- Lu Y., Swartz J.R. Functional properties of flagellin as a stimulator of innate immunity. Sci. Rep., 2016, 6: 18379 (doi: 10.1038/srep18379).
- Gómez-Gómez L., Boller T. FLS2: an LRR receptor-like kinase involved in the perception of the bacterial elicitor flagellin in Arabidopsis. Molecular Cell, 2000, 5(6): 1003-1011 (doi: 10.1016/s1097-2765(00)80265-8).
- Boller T., Felix G. A renaissance of elicitors: perception of microbe-associated molecular patterns and danger signals by pattern-recognition receptors. Annual Review of Plant Biology, 2009, 60: 379-406 (doi: 10.1146/annurev.arplant.57.032905.105346).
- Shiu S.-H., Karlowski W.M., Pan R., Tzeng Y.-H., Mayer K.F., Li W.-H. Comparative analysis of the receptor-like kinase family in Arabidopsis and rice. The Plant Cell, 2004, 16(5): 1220-1234 (doi: 10.1105/tpc.020834).
- Jelenska J., Davern S.M., Standaert R.F., Mirzadeh S., Greenberg J.T. Flagellin peptide flg22 gains access to long-distance trafficking in Arabidopsis via its receptor, FLS2. Journal of Experimental Botany, 2017, 68(7): 1769-1783 (doi: 10.1093/jxb/erx060).
- Fliegmann J., Felix G. Immunity: flagellin seen from all sides. Nature Plants, 2016, 2(9): 16136 (doi: 10.1038/nplants.2016.136).
- Hind S.R., Strickler S.R., Boyle P.C., Dunham D.M., Bao Z., O’Doherty I.M., Baccile J.A., Hoki J.S., Viox E.G., Clarke C.R. Vinatzer B.A., Schroeder F.C., Martin G.B. Tomato receptor FLAGELLIN-SENSING 3 binds flgII-28 and activates the plant immune system. Nature Plants, 2016, 2(9): 1-8 (doi: 10.1038/nplants.2016.128).
- Chinchilla D., Zipfel C., Robatzek S., Kemmerling B., Nürnberger T., Jones J.D., Felix G., Boller T. A flagellin-induced complex of the receptor FLS2 and BAK1 initiates plant defence. Nature, 2007, 448(7152): 497-500 (doi: 10.1038/nature05999).
- Macho A.P., Zipfel C. Plant PRRs and the activation of innate immune signaling. Molecular Cell, 2014, 54(2): 263-272 (doi: 10.1016/j.molcel.2014.03.028).
- Wei Y., Caceres-Moreno C., Jimenez-Gongora T., Wang K., Sang Y., Lozano-Duran R., Macho A.P. The Ralstonia solanacearum csp22 peptide, but not flagellin-derived peptides, is perceived by plants from the Solanaceae family. Plant Biotechnol. J., 2018, 16(7): 1349-1362 (doi: 10.1111/pbi.12874).
- Cai R., Lewis J., Yan S., Liu H., Clarke C.R., Campanile F., Almeida N.F., Studholme D.J., Lindeberg M., Schneider D., Zaccardelli M., Setubal J.C., Morales-Lizcano N.P., Bernal A., Coaker G., Baker C., Bender C.L., Leman S., Vinatzer B.A. The plant pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato is genetically monomorphic and under strong selection to evade tomato immunity. PLOS Pathog., 2011, 7(8): e1002130 (doi: 10.1371/journal.ppat.1002130).
- Moroz N., Tanaka K. FlgII-28 is a major flagellin-derived defense elicitor in potato. MPMI, 2020, 33(2): 247-255 (doi: 10.1094/MPMI-06-19-0164-R).
- Haney C.H., Ausubel F.M., Urbach J.M. Innate immunity in plants and animals: differences and similarities. The Biochemist, 2014, 36(5): 40-45 (doi: 10.1042/BIO03605040).
- Kunze G., Zipfel C., Robatzek S., Niehaus K., Boller T., Felix G. The N terminus of bacterial elongation factor Tu elicits innate immunity in Arabidopsis plants. The Plant Cell, 2004, 16(12): 3496-3507 (doi: 10.1105/tpc.104.026765).
- Xu G., Greene G.H., Yoo H., Liu L., Marqués J., Motley J., Dong X. Global translational reprogramming is a fundamental layer of immune regulation in plants. Nature, 2017, 545(7655): 487-490 (doi: 10.1038/nature22371).
- Wei Z.-M., Laby R.J., Zumoff C.H., Bauer D.W., He S.Y., Collmer A., Beer S.V. Harpin, elicitor of the hypersensitive response produced by the plant pathogen Erwinia amylovora. Science, 1992, 257(5066): 85-88 (doi: 10.1126/science.1621099).
- He S.Y., Huang H.C., Collmer A. Pseudomonas syringae pv. syringae harpinPss: a protein that is secreted via the Hrp pathway and elicits the hypersensitive response in plants. Cell, 1993, 73(7): 1255-1266 (doi: 10.1016/0092-8674(93)90354-s).
- Kim J.G., Jeon E., Oh J., Moon J.S., Hwang I. Mutational analysis of Xanthomonas harpin HpaG identifies a key functional region that elicits the hypersensitive response in nonhost plants. Journal of Bacteriology, 2004, 186(18): 6239-6247 (doi: 10.1128/JB.186.18.6239-6247.2004).
- Tarafdar P.K., Vedantam L.V., Kondreddy A., Podile A.R., Swamy M.J. Biophysical investigations on the aggregation and thermal unfolding of harpinPss and identification of leucine-zipper-like motifs in harpins. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) — Proteins and Proteomics, 2009, 1794(11): 1684-1692 (doi: 10.1016/j.bbapap.2009.07.023).
- Choi M.-S., Kim W., Lee C., Oh C.-S. Harpins, multi-functional proteins secreted by gram-negative plant-pathogenic bacteria. MPMI, 2013, 26(10): 1115-1122 (doi: 10.1094/MPMI-02-13-0050-CR).
- Dong H.-P., Yu H., Bao Z., Guo X., Peng J., Yao Z., Chen G., Qu S., Dong H. The ABI2- dependent abscisic acid signalling controls HrpN-induced drought tolerance in Arabidopsis. Planta, 2005, 221(3): 313-327 (doi: 10.1007/s00425-004-1444-x).
- Yang Y., Chen T., Dai X., Yang D., Wu Y., Chen H., Zheng Y., Zhi Q., Wan X., Tan X. Comparative transcriptome analysis revealed molecular mechanisms of peanut leaves responding to Ralstonia solanacearum and its type III secretion system mutant. Front. Microbiol., 2022, 13: 998817 (doi: 10.3389/fmicb.2022.99881).
- Xie L., Liu Y., Wang H., Liu W., Di R., Miao W., Zheng F. Characterization of harpin Xoo induced hypersensitive responses in non host plant, tobacco. J. Plant Biochem. Biotechnol., 2017, 26(1): 73-79 (doi: 10.1007/s13562-016-0363-9).
- Zou L.-F., Wang X.-P., Xiang Y., Zhang B., Li Y.-R., Xiao Y.-L., Wang J.-S., Walmsley A.R., Chen G.-Y. Elucidation of the hrp clusters of Xanthomonas oryzae pv. oryzicola that control the hypersensitive response in nonhost tobacco and pathogenicity in susceptible host rice. Applied and Environmental Microbiology, 2006, 72(9): 6212-6224 (doi: 10.1128/AEM.00511-06).
- Cho H.-J., Park Y.-J., Noh T.-H., Kim Y.-T., Kim J.-G., Song E.-S., Lee D.-H., Lee B.-M. Molecular analysis of the hrp gene cluster in Xanthomonas oryzae pathovar oryzae KACC10859. Microbial Pathogenesis, 2008, 44(6): 473-483 (doi: 10.1016/j.micpath.2007.12.002).
- Liu Y., Zhou X., Liu W., Xiong X., Lv C., Zhou X., Miao W. Functional regions of HpaXm as elicitors with specific heat tolerance induce the hypersensitive response or plant growth promotion in nonhost plants. PLoS ONE, 2018, 13(1): e0188788 (doi: 10.1371/journal.pone.0188788).
- Miao W.-G., Song C.-F., Wang Y., Wang J.-S. HpaXm from Xanthomonas citri subsp. malvacearum is a novel harpin with two heptads for hypersensitive response. J. Microbiol. Biotechnol., 2010, 20(1): 54-62.
- Haapalainen M., Engelhardt S., Kuefner I., Li C.M., Nuernberger T., Lee J., Romantschuk M., Taira S. Functional mapping of harpin HrpZ of Pseudomonas syringae reveals the sites responsible for protein oligomerization, lipid interactions and plant defence induction. Molecular Plant Pathology, 2011, 12(2): 151-166 (doi: 10.1111/j.1364-3703.2010.00655.x).
- Wu H., Wang S., Qiao J., Liu J., Zhan J., Gao X. Expression of HpaGXooc protein in Bacillus subtilis and its biological functions. J. Microbiol. Biotechnol., 2009, 19(2): 194-203 (doi: 10.4014/jmb.0802.154).
- Chen G.-Y., Zhang B., Wu X.-M., Zhao M.-Q., Wei S., Wu X.B. Cloning and characterization of an harpin encoding gene from Xanthomonas axonopodis pv. glycines required for hypersensitive response on nonhost plant tobacco. Wei Sheng Wu Xue Bao, 2005, 45(4): 496-499.
- Palmieri A.C.B., Amaral A.M., Homem R.A., Machado M.A. Differential expression of pathogenicity- and virulence-related genes of Xanthomonas axonopodis pv. citri under copper stress. Genet. Mol. Biol., 2010, 33(2): 348-353 (doi: 10.1590/S1415-47572010005000030).
- Wang X., Zhang L., Ji H., Mo X., Li P., Wang J., Dong H. Hpa1 is a type III translocator in Xanthomonas oryzae pv. oryzae. BMC Microbiol., 2018, 18(1): 105 (doi: 10.1186/s12866-018-1251-3).
- Niu X.-N., Wei Z.-Q., Zou H.-F., Xie G.-G., Wu F., Li K.-J., Jiang W., Tang J.-L., He Y.-Q. Complete sequence and detailed analysis of the first indigenous plasmid from Xanthomonas oryzae pv. oryzicola. BMC Microbiol., 2015, 15(1): 233 (doi: 10.1186/s12866-015-0562-x).
- Solé M., Scheibner F., Hoffmeister A.-K., Hartmann N., Hause G., Rother A., Jordan M., Lautier M., Arlat M., Büttner D. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria secretes proteases and xylanases via the Xps type II secretion system and outer membrane vesicles. Journal of Bacteriology, 2015, 197(17): 2879-2893 (doi: 10.1128/JB.00322-15).
- Fu M., Xu M., Zhou T., Wang D., Tian S., Han L., Dong H., Zhang C. Transgenic expression of a functional fragment of harpin protein Hpa1 in wheat induces the phloem-based defence against English grain aphid. Journal of Experimental Botany, 2014, 65(6): 1439-1453 (doi: 10.1093/jxb/ert488).
- Kvitko B.H., Ramos A.R., Morello J.E., Oh H.-S., Collmer A. Identification of harpins in Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000, which are functionally similar to HrpK1 in promoting translocation of type III secretion system effectors. Journal of Bacteriology, 2007, 189(22): 8059-8072 (doi: 10.1128/JB.01146-07).
- Tampakaki A.P., Panopoulos N.J. Elicitation of hypersensitive cell death by extracellularly targeted HrpZPph produced in planta. MPMI, 2000, 13(12): 1366-1374 (doi: 10.1094/MPMI.2000.13.12.1366).
- Reboutier D., Frankart C., Briand J., Biligui B., Laroche S., Rona J.-P., Barny M.-A., Bouteau F. The HrpNea harpin from Erwinia amylovora triggers differential responses on the nonhost Arabidopsis thaliana cells and on the host apple cells. MPMI, 2007, 20(1): 94-100 (doi: 10.1094/MPMI-20-0094).
- Li P., Zhang L., Mo X., Ji H., Bian H., Hu Y., Majid T., Long J., Pang H., Tao Y., Ma J., Dong H. Rice aquaporin PIP1;3 and harpin Hpa1 of bacterial blight pathogen cooperate in a type III effector translocation. Journal of Experimental Botany, 2019, 70(12): 3057-3073 (doi: 10.1093/jxb/erz130).
- Grant S.R., Fisher E.J., Chang J.H., Mole B.M., Dangl J.L. Subterfuge and manipulation: type III effector proteins of phytopathogenic bacteria. Annual Review of Microbiology, 2006, 60: 425-449 (doi: 10.1146/annurev.micro.60.080805.142251).
- Engelhardt S., Lee J., Gabler Y., Kemmerling B., Haapalainen M.-L., Li C.-M., Wei Z., Keller H., Joosten M., Taira S., Nurnberger T. Separable roles of the Pseudomonas syringae pv. phaseolicola accessory protein HrpZ1 in ion-conducting pore formation and activation of plant immunity. The Plant Journal, 2009, 57(4): 706-717 (doi: 10.1111/j.1365-313X.2008.03723.x).
- Oh C.S., Beer S.V. AtHIPM, an ortholog of the apple HrpN-interacting protein, is a negative regulator of plant growth and mediates the growth-enhancing effect of HrpN in Arabidopsis. Plant Physiology, 2007, 145(2): 426-436 (doi: 10.1104/pp.107.103432).
- Chang X., Nick P. Defense signaling triggered by flg22 and harpin is integrated into a different stilbene output in Vitis cells. PLoS ONE, 2012, 7(7): e40446 (doi: 10.1371/journal.pone.0040446).
- Sang S., Li X., Gao R., You Z., Lü B., Liu P., Ma Q., Dong H. Apoplastic and cytoplasmic location of harpin protein Hpa1Xoo plays different roles in H2O2 generation and pathogen resistance in Arabidopsis. Plant Mol. Biol., 2012, 79(4-5): 375-391 (doi: 10.1007/s11103-012-9918-x).
- Pavli O.I., Kelaidi G.I., Tampakaki A.P., Skaracis G.N. The hrpZ gene of Pseudomonas syringae pv. phaseolicola enhances resistance to rhizomania disease in transgenic Nicotiana benthamiana and sugar beet. PLoS ONE, 2011, 6(3): e17306 (doi: 10.1371/journal.pone.0017306).
- Dong H.-P., Peng J., Bao Z., Meng X., Bonasera J.M., Chen G., Beer S.V., Dong H. Downstream divergence of the ethylene signaling pathway for harpin-stimulated Arabidopsis growth and insect defense. Plant Physiology, 2004, 136(3): 3628-3638 (doi: 10.1104/pp.104.048900).
- Chen L., Zhang S.-J., Zhang S.-S., Qu S., Ren X., Long J., Yin Q., Qian J., Sun F., Zhang C. Wang L., Wu X., Wu T., Zhang Z., Cheng Z., Hayes M., Beer S.V., Dong H. A fragment of the Xanthomonas oryzae pv. oryzicola harpin HpaGXooc reduces disease and increases yield of rice in extensive grower plantings. Phytopathology, 2008, 98(7): 792-802 (doi: 10.1094/PHYTO-98-7-0792).
- Wang D., Wang Y., Fu M., Mu S., Han B., Ji H., Cai H., Dong H., Zhang C. Transgenic expression of the functional fragment Hpa110-42 of the harpin protein Hpa1 imparts enhanced resistance to powdery mildew in wheat. Plant Disease, 2014, 98(4): 448-455 (doi: 10.1094/PDIS-07-13-0687-RE).
- Sands L.B., Cheek T., Reynolds J., Ma Y., Berkowitz G.A. Effects of harpin and flg22 on growth enhancement and pathogen defense in Cannabis sativa seedlings. Plants, 2022, 11(9): 1178 (doi: 10.3390/plants11091178).
- Chang X., Seo M., Takebayashi Y., Kamiya Y., Riemann M., Nick P. Jasmonates are induced by the PAMP flg22 but not the cell death-Inducing elicitor harpin in Vitis rupestris. Protoplasma, 2017, 254(1): 271-283 (doi: 10.1007/s00709-016-0941-7).
- Joshi J.B., Senthamilselvi D., Maupin-Furlow J.A., Uthandi S. Microbial protein elicitors in plant defense. In: Microbial biocontrol: sustainable agriculture and phytopathogen management /A. Kumar (ed.). Springer, Cham, 2022 (doi: 10.1007/978-3-030-87512-1_10).
- Dong H., Delaney T.P., Bauer D.W., Beer S.V. Harpin induces disease resistance in Arabidopsis through the systemic acquired resistance pathway mediated by salicylic acid and the NIM1 gene. Plant J., 1999, 20(2): 207-215 (doi: 10.1046/j.1365-313x.1999.00595.x).
- Сhoi M.S., Kim W., Lee C., Oh C.S. Harpins, multifunctional proteins secreted by gram-negative plant-pathogenic bacteria. MPMI, 2013, 26(10): 1115-1122 (doi: 10.1094/MPMI-02-13-0050-CR).
- Zhang N., Zhou S., Yang D., Fan Z. Revealing shared and distinct genes responding to JA and SA signaling in Arabidopsis by meta-analysis. Front. Plant Sci., 2020, 11: 908 (doi: 10.3389/fpls.2020.00908).
- Скабкин М.А., Скабкина О.В., Овчинников Л.П. Mультифункциональные белки с доменом холодового шока в регуляции экспрессии генов. Успехи биологической химии, 2004, 44: 3-52.
- Eshwar A.K., Guldimann C., Oevermann A., Tasara T. Cold-shock domain family proteins (Csps) are involved in regulation of virulence, cellular aggregation, and flagella-based motility in Listeria monocytogenes. Front. Cell. Infect. Microbiol., 2017, 7: 453 (doi: 10.3389/fcimb.2017.00453).
- Felix G., Boller T. Molecular sensing of bacteria in plants. The highly conserved RNA-binding motif RNP-1 of bacterial cold shock proteins is recognized as an elicitor signal in tobacco. Journal of Biological Chemistry, 2003, 278(8): 6201-6208 (doi: 10.1074/jbc.M209880200).
- Wang L., Albert M., Einig E., Fürst U., Krust D., Felix G. The pattern-recognition receptor CORE of Solanaceae detects bacterial cold-shock protein. Nature Plants, 2016, 2: 16185 (doi: 10.1038/nplants.2016.185).
- Djavakhia V.G., Nikolaev O.N., Voinova T.M., Battchikova N.A., Korpela T., Khomutov R.M. DNA sequence of gene and amino acid sequence of protein from Bacillus thuringiensis, which induces nonspecific resistance of plants to viral and fungal diseases. Journal of Russian Phytopathological Society, 2000, 1: 75-81.
- Shcherbakova L.A. Some natural proteinaceous and polyketide compounds in plant protection and their potential in green consumerization. In: Natural products in plant pest management /N.K. Dubey (ed.). CABI International, Boston, 2011 (doi: 10.1079/9781845936716.0109).
- Кромина К.А., Джавахия В.Г. Экспрессия бактериального гена CspD в растениях табака приводит к повышению устойчивости к грибным и вирусным фитопатогенам. Молeкулярная генетика, микробиология и вирусология, 2006, 1: 31-34.
- de Wit P.J., Laugé R., Honée G., Joosten M.H., Vossen P., Kooman-Gersmann M., Vogelsang R., Vervoort J.J. Molecular and biochemical basis of the interaction between tomato and its fungal pathogen Cladosporium fulvum. Antonie Van Leeuwenhoek, 1997, 71(1-2): 137-141 (doi: 10.1023/a:1000102509556).
- Ökmen B., de Wit P.J.G.M. Cladosporium fulvum-tomato pathosystem: fungal infection strategy and plant responses. In: Molecular plant immunity /G. Sessa (ed.). John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, 2013 (doi: 10.1002/9781118481431.ch10).
- Wan J., Zhang X.-C., Neece D., Ramonell K.M., Clough S., Kim S.-Y., Stacey M.G., Stacey G. A LysM receptor-like kinase plays a critical role in chitin signaling and fungal resistance in Arabidopsis. Plant Cell, 2008, 20(2), 471-481 (doi: 10.1105/tpc.107.056754).
- Liebrand T.W., van den Berg G.C., Zhang Z., Smit P., Cordewener J.H., America A.H., Sklenar J., Jones A.M., Tameling W.I., Robatzek S., Thomma B.P., Joosten M.H. Receptor-like kinase SOBIR1/EVR interacts with receptor-like proteins in plant immunity against fungal infection. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2013, 110(24): 10010-10015 (doi: 10.1073/pnas.1220015110).
- Wulff B.B., Chakrabarti A., Jones D.A. Recognitional specificity and evolution in the tomato–Cladosporium fulvum pathosystem. MPMI, 2009, 22(10): 1191-1202 (doi: 10.1094/MPMI-22-10-1191).
- Sánchez-Vallet A., Saleem-Batcha R., Kombrink A., Hansen G., Valkenburg D.J., Thomma B.P., Mesters J.R. Fungal effector Ecp6 outcompetes host immune receptor for chitin binding through intrachain LysM dimerization. eLife, 2013, 2: e00790 (doi: 10.7554/eLife.00790).
- Thomma B.P., Nürnberger T., Joosten M.H. Of PAMPs and effectors: the blurred PTI-ETI dichotomy. The Plant Cell, 2011, 23(1): 4-15 (doi: 10.1105/tpc.110.082602).
- Kombrink A., Sanchez-Vallet A., Thomma B.P. The role of chitin detection in plant-pathogen interactions. Microbes Infect., 2011, 13(14-15): 1168-1176 (doi: 10.1016/j.micinf.2011.07.010)
- Rep M., van der Does H.C., Meijer M., van Wijk R., Houterman P.M., Dekker H.L., de Koster C.G., Cornelissen B.J.C. A small, cysteine-rich protein secreted by Fusarium oxysporum during colonization of xylem vessels is required for I-3-mediated resistance in tomato. Molecular Microbiology, 2004, 53(5): 1373-1383 (doi: 10.1111/j.1365-2958.2004.04177.x).
- Takken F., Rep M. The arms race between tomato and Fusarium oxysporum. Molecular Plant Pathology, 2010, 11(2): 309-314 (doi: 10.1111/j.1364-3703.2009.00605.x).
- Shcherbakova L., Odintsova T., Stakheev A., Fravel D. Zavriev S. Identification of a novel small cysteine-rich protein in the fraction from the biocontrol Fusarium oxysporum strain CS-20 that mitigates Fusarium wilt symptoms and triggers defense responses in tomato. Front. Plant Sci., 2015, 6: 1207 (doi: 10.3389/fpls.2015.01207).
- Shcherbakova L.A., Nazarova T.A., Mikityuk O.D., Fravel D.R. Fusarium sambucinum isolate FS-94 690 induces resistance against Fusarium wilt of tomato via activation and priming of a salicylic acid-dependent signaling system. Russ. J. Plant Physiology, 2011, 58: 808-818 (doi: 10.1134/S1021443711050207).
- Shcherbakova L.A., Nazarova T.A., Mikityuk O.D, Istomina E.A., Odintsova T.I. An extract purified from the mycelium of a tomato wilt-controlling strain of Fusarium sambucinum is able to protect wheat against Fusarium and common root rots. Pathogens, 2018, 7(3): 61 (doi: 10.3390/pathogens7030061).
- Keates S.E., Kostman T.A., Anderson J.D., Bailey B.A. Altered gene expression in three plant species in response to treatment with Nep1, a fungal protein that causes necrosis, Plant Physiology, 2003, 132(3): 1610-1622 (doi: 10.1104/pp.102.019836).
- Oomea S., Raaymakersa T.M., Cabrala A., Samwela S., Böhm H., Albert I., Nürnberger T., van den Ackerveken G. Nep1-like proteins from three kingdoms of life act as a microbe-associated molecular pattern in Arabidopsis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2014, 111(47): 16955-16960 (doi: 10.1073/pnas.1410031111).
- van't Slot K. A., van den Burg H.A., Kloks C.P., Hilbers C.W., Knogge W., Papavoine C.H. Solution structure of the plant disease resistance-triggering protein NIP1 from the fungus Rhynchosporium secalis shows a novel beta-sheet fold. Journal of Biological Chemistry, 2003, 278(46): 45730-45736 (doi: 10.1074/jbc.M308304200).
- Djonović S., Pozo M.J., Dangott L.J., Howell C.R., Kenerley C.M. Sm1, a proteinaceous elicitor secreted by the biocontrol fungus Trichoderma virens induces plant defense responses and systemic resistance. MPMI, 2006, 19(8): 838-853 (doi: 10.1094/MPMI-19-0838).
- Seidl V., Marchetti M., Schandl R., Allmaier G., Kubicek C.P. Epl1, the major secreted protein of Hypocrea atroviridis on glucose, is a member of a strongly conserved protein family comprising plant defense response elicitors. The FEBS Journal, 2006, 273(18): 4346-4359 (doi: 10.1111/j.1742-4658.2006.05435.x).
- Wang Y., Song J., Wu Y., Odeph M., Liu Z., Howlett B.J., Wang S., Yang P., Yao L., Zhao L., Yang Q. Eplt4 proteinaceous elicitor produced in Pichia pastoris has a protective effect against Cercosporidium sofinum infections of soybean leaves. Appl. Biochem. Biotechnol., 2013, 169(3): 722-737 (doi: 10.1007/s12010-012-0015-z).
- Ruocco M., Lanzuise S., Lombardi N., Woo S.L., Vinale F., Marra R., Varlese R., Manganiello G., Pascale A., Scala V., Turrà D., Scala F., Lorito M. Multiple roles and effects of a novel Trichoderma hydrophobin. MPMI, 2015, 28(2): 167-179 (doi: 10.1094/MPMI-07-14-0194-R).
- Zhang W., Fraiture M., Kolb D., Löffelhardt B., Desaki Y., Boutrot F.F., Tör M., Zipfel C., Gust A.A., Brunner F. Arabidopsis receptor-like protein and receptor-like kinase suppressor of BIR1-1/EVERSHED mediate innate immunity to necrotrophic fungi. The Plant Cell, 2013, 25(10): 4227-4241 (doi: 10.1105/tpc.113.117010).
- Zhang Y., Yang X., Liu Q., Qiu D., Zhang Y., Zeng H., Yuan J., Mao J. Purification of novel protein elicitor from Botrytis cinerea that induce disease resistance and drought tolerance in plants. Microbiological Research, 2010, 165(2): 142-151 (doi: 10.1016/j.micres.2009.03.004).
- Peng D.-H., Qiu D.-W., Ruan L.-F., Zhou C.-F., Sun M. Protein elicitor PemG1 from Magnaporthe grisea induces systemic acquired resistance (SAR) in plants. MPMI, 2011, 24(10): 1239-1246 (doi: 10.1094/MPMI-01-11-0003).
- Chen M., Zeng H., Qiu D., Guo L., Yang X., Shi H., Zhou T., Zhao J. Purification and characterization of a novel hypersensitive response-inducing elicitor from Magnaporthe oryzae that triggers defense response in rice. PLoS ONE, 2012, 7(5): e37654 (doi: 10.1371/journal.pone.0037654).
- Kulye M., Liu H., Zhang Y., Zeng H., Yang X., Qiu D. Hrip1, a novel protein elicitor from necrotrophic fungus, Alternaria tenuissima, elicits cell death, expression of defence-related genes and systemic acquired resistance in tobacco. Plant Cell Environ., 2012, 35(12): 2104-2120 (doi: 10.1111/j.1365-3040.2012.02539.x).
- Liu W.P., Zeng H.M., Liu Y.F., Yuan J.J., Qiu D.W. Expression of Alternaria tenuissima PeaT2 gene in Pichia pastoris and its function. Wei Sheng Wu Xue Bao, 2007, 47(4): 593-597.
- Mao J., Liu Q., Yang X., Long C., Zhao M., Zeng H., Liu H., Yuan J., Qiu D. Purification and expression of a protein elicitor from Alternaria tenuissima and elicitor-mediated defence responses in tobacco. Annals of Applied Biology, 2010, 156(3): 411-420 (doi: 10.1111/j.1744-7348.2010.00398.x).
- Zhang W., Li H., Wang L., Xie S., Zhang Y., Kang R., Zhang M., Zhang P., Li Y., Hu Y., Wang M., Chen L., Yuan H., Ding S., Li H. A novel effector, CsSp1, from Bipolaris sorokiniana, is essential for colonization in wheat and is also involved in triggering host immunity. Molecular Plant Pathology, 2022, 23(2): 218-236 (doi: 10.1111/mpp.13155).
- Wang J., Liu S., Ren P., Jia F., Kang F., Wang R., Xue R., Yan X., Huang L. A novel protein elicitor (PeSy1) from Saccharothrix yanglingensis induces plant resistance and interacts with a receptor-like cytoplasmic kinase in Nicotiana benthamiana. Molecular Plant Pathology, 2023, 24(5): 436-451 (doi: 10.1111/mpp.13312).
- Tarallo M., McDougal R.L., Chen Z., Wang Y., Bradshaw R.E., Mesarich C.H. Characterization of two conserved cell death elicitor families from the Dothideomycete fungal pathogens Dothistroma septosporum and Fulvia fulva (syn. Cladosporium fulvum). Front. Microbiol., 2022, 13: 964851 (doi: 10.3389/fmicb.2022.964851).
- Xu Q., Hu S., Jin M., Xu Y., Jiang Q., Ma J., Zhang Y., Qi P., Chen G., Jiang Y., Zheng Y., Wei Y. The N-terminus of a Fusarium graminearum-secreted protein enhances broad-spectrum disease resistance in plants. Molecular Plant Pathology, 2022, 23(12): 1751-1764 (doi: 10.1111/mpp.13262).
- Wang S., Yang S., Dai K., Zheng W., Zhang X., Yang B., Ye W., Zheng X., Wang Y.The effector Fg62 contributes to Fusarium graminearum virulence and induces plant cell death. Phytopathol. Res., 2023, 5: 12 (doi: 10.1186/s42483-023-00167-z).
- Janků M., Činčalová L., Luhová L., Lochman J., Petřivalský M. Biological effects of oomycetes elicitins. Plant Prot. Sci., 2020, 56(1): 1-8 (doi: 10.17221/21/2019-PPS).
- Derevnina L., Dagdas Y.F., de la Concepcion J.C., Bialas A., Kellner R., Petre B., Domazakis E., Du J., Wu C. H., Lin X., Aguilera-Galvez C., Cruz-Mireles N., Vleeshouwers V.G., Kamoun S. Nine things to know about elicitins. New Phytol., 2016, 212 (4): 888-895 (doi: 10.1111/nph.14137).
- Noman A., Aqeel M., Irshad M.K., Qari S.H., Hashem M., Alamri S., AbdulMajeed A.M., Al-Sadi A.M. Elicitins as molecular weapons against pathogens: consolidated biotechnological strategy for enhancing plant growth. Critical Reviews in Biotechnology, 2020, 40(6): 821-832 (doi: 10.1080/07388551.2020.1779174).
- Qutob D., Huitema E., Gijzen M., Kamoun S. Variation in structure and activity among elicitins from Phytophthora sojae. Molecular Plant Pathology, 2003, 4(2): 119-124 (doi: 10.1046/j.1364-3703.2003.00158.x).
- Starý T., Satková P., Piterková J., Mieslerová B., Luhová L., Mikulík J., Kašparovský T., Petřivalský M., Lochman J. The elicitin β-cryptogein’s activity in tomato is mediated by jasmonic acid and ethylene signalling pathways independently of elicitin-sterol interactions. Planta, 2018, 249: 739-749 (doi: 10.1007/s00425-018-3036-1).
- Keller H., Bonnet P., Galiana E., Pruvot L., Friedrich L., Ryals J., Ricci P. Salicylic acid mediates elicitin-induced systemic acquired resistance, but not necrosis in tobacco. MPMI, 1996, 9: 696-703 (doi: 10.1094/MPMI-9-0696).
- Kawamura Y., Hase S., Takenaka S., Kanayama Y., Yoshioka H., Kamoun S., Takahashi H. INF1 elicitin activates jasmonic acid- and ethylene-mediated signalling pathways and induces resistance to bacterial wilt disease in tomato. Journal of Phytopathology, 2009, 157: 287-297 (doi: 10.1111/j.1439-0434.2008.01489.x).
- Brunner F., Rosahl S., Lee J., Rudd J.J., Geiler C., Kauppinen S., Rasmussen G., Scheel D., Nürnberger T. Pep-13 a plant defense inducing pathogen-associated pattern from Phytophthora transglutaminases. EMBO J., 2002, 21(24): 6681-6688 (doi: 10.1093/emboj/cdf667).
- Veit S., Worle J. M., Nurnberger T., Koch W., Seitz H.U. A novel protein elicitor (PaNie) from Pythium aphanidermatum induce duel defense responses in carrot and Arabidopsis. Plant Physiology, 2001, 127: 832-841.
- Frías M., González M., González C., Brito N. A 25-residue peptide from Botrytis cinerea xylanase BcXyn11A elicits plant defenses. Front. Plant Sci., 2019, 10: 474 (doi: 10.3389/fpls.2019.00474).
- Mishura A.A., Sharma K., Misra R.S. Purification and characterization of elicitor protein from Phytophthora colocasiae and basic resistance in Colocasia esculenta. Microbiological Research, 2009, 64: 688-693 (doi: 10.1016/j.micres.2008.09.001).
- Bar M., Sharfman M., Avni A. LeEix1 functions as a decoy receptor to attenuate LeEix2 signaling. Plant Signaling & Behavior, 2011, 6(3): 455-457 (doi: 10.4161/psb.6.3.14714).
- Tundo S., Moscetti I., Faoro F., Lafond M., Giardina T., Favaron F., Sella L., D’Ovidio R. Fusarium graminearum produces different xylanases causing host cell death that is prevented by the xylanase inhibitors XIP-I and TAXI-III in wheat. Plant Science, 2015, 240: 161-169 (doi: 10.1016/j.plantsci.2015.09.002).
- Noda J, Brito N, González C. The Botrytis cinerea xylanase Xyn11A contributes to virulence with its necrotizing activity, not with its catalytic activity. BMC Plant Biol., 2010, 10: 38 (doi: 10.1186/1471-2229-10-38).
- Ma Y., Han C., Chen J., Li H., He K., Liu A., Li D. Fungal cellulase is an elicitor but its enzymatic activity is not required for its elicitor activity. Molecular Plant Pathology, 2015, 16(1): 14-26 (doi: 10.1111/mpp.12156).
- Shumilina D., Krämer R., Klocke E., Dzhavakhiya V. MF3 (peptidyl-prolyl cis/trans isomerase of FKBP type from Pseudomonas fluorescens) — an elicitor of non-specific plant resistance against pathogens. Phytopathol. Pol., 2006, 41: 39-49.
- Struwe W.B., Robinson C.V. Relating glycoprotein structural heterogeneity to function in sights from native mass spectrometry. Current Opinion in Structural Biology, 2019, 58: 241-248 (doi: 10.1016/j.sbi.2019.05.019).
- Chen X.-L., Shi T., Yang J., Shi W., Gao X., Chen D., Xu X., Xu J.-R., Talbot N. J., Peng Y. L. N-glycosylation of effector proteins by an -1,3-mannosyltransferase is required for the rice blast fungus to evade host innate immunity. Plant Cell, 2014, 26(3): 1360-1376 (doi: 10.1105/tpc.114.123588).
- Takenaka S., Nakamura Y., Kono T., Sekiguchi H., Masunaka A., Takahashi H. Novel elicitin-like proteins isolated from the cell wall of the biocontrol agent Pythium oligandrum induce defence-related genes in sugar beet. Molecular Plant Pathology, 2006, 7(5): 325-339 (doi: 10.1111/j.1364-3703.2006.00340.x).
- Gust A.A., Biswas R., Lenz H.D., Rauhut T., Ranf S., Kemmerling B., Götz F., Glawischnig E., Lee J., Felix G., Nürnberger T. Bacteria-derived peptidoglycans constitute pathogen-associated molecular patterns triggering innate immunity in Arabidopsis. Journal of Biological Chemistry, 2007, 282(44): 32338-32348 (doi: 10.1074/jbc.M704886200).
- Jin Y., Zhao J.-H., Guo H.-S. Recent advances in understanding plant antiviral RNAi and viral suppressors of RNAi. Curr. Opin. Virol., 2021, 46: 65-72 (doi: 10.1016/j.coviro.2020.12.001).
- Wang K.D., Empleo R., Nguyen T.T., Moffett P., Sacco M.A. Elicitation of hypersensitive responses in Nicotiana glutinosa by the suppressor of RNA silencing protein P0 from poleroviruses. Molecular Plant Pathology, 2015, 16(5): 435-448 (doi: 10.1111/mpp.12201).
- Cai L., Dang M., Yang Y., Mei R., Li F., Tao X., Palukaitis P., Beckett R., Miller W.A., Gray S.M., Xu Y. Naturally occurring substitution of an amino acid in a plant virus gene-silencing suppressor enhances viral adaptation to increasing thermal stress. PLoS Pathog., 2023, 19(4): e1011301 (doi: 10.1371/journal.ppat.1011301).
- Pumplin N., Voinnet O. RNA silencing suppression by plant pathogens: defence, counter-defence and counter-counter-defence. Nat. Rev. Microbiol., 2013, 11(11): 745-760 (doi: 10.1038/nrmicro3120).
- Dewen Q., Yijie D., Yi Z., Shupeng L., Fachao S. Plant immunity inducer development and application. MPMI, 2017, 30(5): 355-360 (doi: 10.1094/MPMI-11-16-0231-CR).
- Соколов Ю. А. Элиситоры и их примение. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук, 2015, 4: 109-121.
- Dzhavakhia V., Filippov F., Skryabin K., Voinova T., Kouznetsova M., Shulga O., Shumilina D., Kromina K., Pridanniko M., Battchikova N., Korpela T. Proteins inducing multiple resistance of plants to phytopathogens and pests. Intern. Pat. Classification: C07K 14/21. Intern. applic. number: PCT/FI2004/000766. Intern. Filing date: 17 December 2004 (17.12.2004). Priority data: 20031880 22 December 2003. Intern. Public. number: WO 2005/061533 A1
- Shen Y., Li J., Xiang J., Xiang J., Wang J., Yin K., Liu Q. Isolation and identification of a novel protein elicitor from a Bacillus subtilis strain BU412. AMB Expr., 2019, 9: 117 (doi: 10.1186/s13568-019-0822-5).