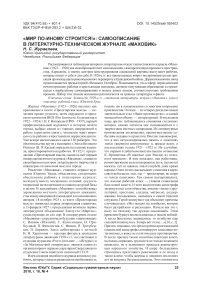"Мир по-иному строится!": самоописание в литературно-техническом журнале "Маховик"
Бесплатный доступ
Рассматриваются публикации авторов в литературном отделе златоустовского журнала «Маховик» (1923-1926) как своеобразный текст самоописания, самопрезентации времени и пространства. Адресатом, а значит, центром конструирования социальной картины выступают рабочие, которые пишут о себе и для себя. В 1920-е гг. все происходящее вокруг воспринимается как проекция произошедшего революционного переворота и Гражданской войны. Дореволюционная эпоха провозглашается предысторией «Великого Октября». Показывается, что в сферу периодической печати приходит рабочая и крестьянская молодежь, активно получающая образование и стремящееся к вербальному самовыражению и поиску новых языков, соответствующих требованиям времени. Набор этих языков неизменно располагается на границе литературы и факта.
Златоуст, 1920-е гг, советская литература, журнал "маховик", (само) описание, рабочий класс, южный урал
Короткий адрес: https://sciup.org/147231626
IDR: 147231626 | УДК: 94(470.55) | DOI: 10.14529/ssh180403
Текст научной статьи "Мир по-иному строится!": самоописание в литературно-техническом журнале "Маховик"
описание, рабочий класс, Южный Урал.
Журнал «Маховик» (1923—1926) выходил как приложение к газете «Пролетарская мысль» — печатном органе уездного, затем окружного и городского комитетов ВКП (б) в Златоусте. Ее редактор в 1922—1924 гг. Н. Г. Нипоркин (1899—1937), первый профессиональный журналист в истории печати города, выбрал одним из главных направлений в работе укрепление связи с читателем через широкую сеть рабочих и крестьянских корреспондентов. Уже вскоре насчитывалось около 150 рабкоров. Это обстоятельство вкупе с вызовами «Эпохи Великого Поиска» (В. П. Катаев) определили создание журнала, ориентированного на рабочих. В 1923 г. при редакции «Пролетарской мысли» вышел в свет первый номер ежемесячного журнала «Маховик», ставшего своеобразным центром литературного творчества и инженерно-технической мысли в городе.
Рождение «Маховика», ставшего первым журналом Южного Урала, объяснялось следующим: обеспечение рабочих в популярном журнале; малодоступность московских изданий; скудость творческой интеллигенции и социокультурной базы в целом. В дальнейшем «Маховик» способствовал зарождению местного литературного движения, став коммуникативной площадкой для начинающих авторов. 18 октября 1925 г. в газете «Пролетарская мысль» появилась первая литературная страничка, а 13 февраля 1927 г. при редакции возникло первое литературное объединение Златоуста «Мартен», существующее до сих пор. В литературном отделе «Маховика» сотрудничали будущие «мартеновцы» С. Иванов (Южный), С. Колосницын, И. Приблудный, П. Феоктистов, С. Фомин, П. Трегубен-ков, П. Баранов. Здесь дебютировал с поэзией Н. И. Харитонов — крупная фигура в уральском литературном движении 1930-х гг.: он участвовал в создании журналов «Рост» (позднее — «Штурм») и «За Магнитострой литературы», являлся одним из организаторов и первым секретарем Свердловского отделения Союза советских писателей СССР.
Идея создания подобного журнала возникла у рабочих, которые указали редакции на необходимость помочь им в ознакомлении со многими вопросами производства. Отсюда — из четырех разделов самым значительным стал «Наше производство», а самый меньший по объему — литературный. В последнем чаще других публиковались сочинения столичных авторов, однако читатель мог познакомиться и с творчеством местных самородков. Их литературные произведения посвящались преимущественно событиям недавнего прошлого. Вполне закономерно, что в них актуализировалась память о лишениях эпохи «военного коммунизма» и, прежде всего, о последствиях голода 1921—1922 гг. Не случайно, что первым в дебютном выпуске вышло сочинение К. Просветова «В тяжелые дни. Рассказ из голодного времени». В нем показано, как работники, ремонтирующие железнодорожные пути, пытаются выжить: суп из щавеля, ловля голубей, даже кража коровы. Один из них высказывает сомнения в адрес советской власти: мол, мы — пролетариат, но скоро «с голоду подохнем». Тем самым подчеркивалось, что именно рабочий класс — главная социальная база новой власти. И хотя аналогичная катастрофа затронула все слои общества, именно «низы» (пролетариат, крестьяне, солдаты, матросы), поддержавшие большевиков, оказались в самой тяжелой ситуации. Герой-коммунист так объясняет причины случившегося: «Мы попали на хозяйство, которое было разграблено и расхищено. Начали мы это с пылу по гвоздику так дружно сколачивать. Этим временем буржуи воспользовались и пошли войной. А когда бросились защищаться, то хозяйство еще сильней пошатнулось. Теперь вот голод...» [16, с. 3]. Причем, показано, что среди причин произошедшей социальной катастрофы доминируют классовые антагонизмы, а вовсе не политические противоречия. В числе прочего таким способом советская власть пыталась оправдать трудности не только недавнего прошлого, но и нынешнего процесса реконструкции народного хозяйства. И шире: большевики стремились представить революцию и ее исход в таком ключе, чтобы жертвы и лишения последних лет не казались бессмысленными. Этот оптимизм в отношении будущего оказался подхвачен «снизу». Многим сочинениям не присущи настроения обреченности, в них, как правило, признаются задачи, которые требуют успешного решения: «Гибель разрухе несем и подтянемся, / Нам трудно бороться, но мы победим» [25, с. 22]. Вполне очевидно, что в условиях дефицита материальных ресурсов модернизация страны не могла обойтись без жертв.
Гражданская война зачастую описана как «непрошедшее прошлое», причем, нередко демонстрируется неоднозначное отношение к большевикам. Так, в рассказе Просветова описан «красный» завод, которому грозит захват чехами. Слесарь Кондрат поначалу отказывается с ними воевать, но затем погибает в окопах, уничтожив из пулемета много врагов. Обычная история героизма на первый взгляд. Однако текст показывает, что Кондрат, скорее, борется за свободу своего завода и прилегающего поселка, нежели за марксизм. Он признается, что не в ладах с «большевичиной», презрительно подчеркивая, что «гольтяпня-то заводская вся за большевиков» [ 18, с. 4 ] . И когда ему поручают взорвать завод, чтобы тот не достался чехам, он убивает мастера, который подговорил его на это преступление.
Из рассказа «Рельсы в глуши» вообще явствует, что многие группы населения не видели разницу между политическими идеологиями в период Гражданской войны. В частности, старик Аввакум признает, что деревенские сначала не могли понять, кого поддерживать — «красных» или «белых»: обе стороны воевали за свободу. Но его мнение меняется после беседы с «красными» пленными, убеждавшими, что они воюют за лучшую жизнь. «Белый цветочек начал вянуть и вянуть, а наш красный цветочек все развертываться и развертываться, потом белый в песках где-то совсем засох» [ 24, с. 5 ] , — так образно старик резюмирует итоги войны. Все это противоречит постулату, что идеи коммунизма сразу завоевали широкие массы.
На страницах «Маховика» отразилась актуализация идеологемы «образ врага» (белогвардейцев, в частности), нацеленная на сплочение и мобилизацию общества, отвлечение населения от повседневной рутины. Более того, за несколько лет произошла эволюция этого образа. Далекие от отрицательных оценки противников большевиков сменяют коннотации «черно-белой» гаммы. В частности, Просветов при описании армии атамана Дутова применяет нелицеприятные портретные и поведенческие характеристики (грязные лица, красные от пьянства носы, запыленные чубы) [17, с. 13]. У П. Озорнина рядовой отряда «белых» выглядит мародером: женские ботинки, штаны в лоскутах, гусь за пазухой [13]. Эти образы представляют, скорее, личностно-бытовой уровень, нежели официально-пропагандистский. Между тем, в поэме Л. Шелест показаны зверства белогвардейцев в отношении девушки, которая даже во время пыток не выдала список коммунистов: «Каждую ночь на рассвете / Тонко нагайка пела, / Белогвардейские плети / Кожу сдирали с тела» [30]. Итог — героиню и еще двадцать три человека расстреляли: «Сколько их гордых погибло, / Гордых и сердцем лихих!» [30]. Апелляция к теме насилия — один из главных методов в репрезентации образа врага. Эффект усиливает демонстрация благородства героев, гибнущих за высокие идеалы. Все это прочерчивает для читателя пространство «мы — они» («свои — чужие»), создавая оппозицию, играющую решающую роль в формировании любого сообщества.
Между тем, лидировала среди сочинений в «Маховике», несомненно, тема революции. Именно ей посвящалось значительное количество стихов. Но, по мнению рецензента, они были самыми слабыми: «Не потому что в них мало искренности, а потому что каждый рабочий слышал много речей, читал много газетных статей — и злоупотребляет общими фразами» [ 12, с. 20 ] . Показательно, что сочинения о революции сопровождаются ликованием, ведь она есть источник преображения, созидания, исчезновения мрака, перехода к добру, счастью — всему тому, что символизирует солнце: «Взошел над Русью светлым солнцем Красный Октябрь… Светом повеял и жизнью» [ 13, с. 4 ] . Причем, этим сиянием советская Россия озаряет и другие страны, поддерживая революционные движения в мире, в частности, германских рабочих.
В этой связи вполне очевиден интерес авторов к истокам русской революции и, в частности, к «декабрьской заре» как провозвестнику 1917 г.: «Россия вспрянула, нахмурясь, / К грозе громовой Октября» [ 2 ] . Автор подчеркивает беспрецедентность этих событий в истории человечества, показывая, что именно Россия сумела воплотить идеи европейских радикально-демократических движений: «Пронесшийся Европой шквал / От стен разрушенных Бастилий / До Петербурга долетал» [ 2 ] . Герой рассказа «Рельсы в глуши» семидесятилетний Аввакум, побывавший прежде в различных уголках империи, признается, что, не взирая на старость, он отправится в путь, чтобы посмотреть на «Красную Россию, на мать, родившую такую дочку — как свобода» [ 24, с. 2 ] . Он говорит: «Ведь пятьдесят лет я ждал этих родов, да еще и не от России… куда, мол, нам вохлакам, это сподручнее французу, или немцу, а она в Петрограде!..» [ 24, с. 2 ] .
Мотив революции как источника освобождения закономерно дополняется идущими от Пролеткульта идеями преобразования среды и жизненных обстоятельств на основе технического прогресса. Модернизация превращала машину в род новой высшей реальности, заменившей собой старую — Природу. Революция, как пишет современный философ В. А. Подорога, есть процесс творения новой мегамашины: «Разве она могла стать возможной, если бы не обладала такой машиной, способной разрушить прежний политический строй» [ 15, с. 22 ] . Показателен в этом смысле выбор златоустовцами названия журнала: маховик придает движение двигателю, сообщает инерцию. Это вращающееся колесо накапливает энергию машины и позволяет создавать новый опыт, упраздняя тяжелый физический труд. Происходит обожествление пролетария, естественная среда которого — завод, кузница: «Гам и шум, / Пылом кузницы / Дышу… / Искробрызги, / Роем, роем, Молот мызгнет...» [ 23, с. 4 ] . Это умелец, мастер, работающий с обязательным применением машины. Еще это «кузнец своего счастья».
Отсюда — господство идей машинизма, т. е. приобретение человеком свойств машины: «Машина — не то, чем управляют, а часть среды, некое материальное бессознательное социума, в котором развивается образ самого человека, ставший машинным» [ 23, с. 23 ] . Такой антропоморфизм ярко выражен в стихотворении В. Соловьева «Турбина». Эта лопаточная машина обладает «медным сердцем», у нее есть «пара контрольных ламп / как два кровью налитых глаза» [ 19 ] . Витализм уступает место механицизму: «Голоса незаметных людей отыщи, /сквозь шум металлической груды» [ 19 ] . Воспевается новая реальность человека: «Охватила турбина весь город / лабиринтами медных жил, — / Сталью твердый кирпич вспорот, / И в гранитах пробиты межи» [ 19 ] . Фатально меняется сущность людей. Рабочий показан человеком, которому присущи такие качества как, скорость, дисциплинированность, динамизм, механицизм: «Когда быстр и четок машины ход, / И стремителен бег ремня, / Машинист вспоминает, как длинный год / Он укладывал в рамки дня» [ 7 ] . В этом смысле человек так же, как машина, работает в определенном режиме. Он перенимает главное качество машины — способность повторять одну и ту же операцию в одном и том же ритме и с одинаковым результатом. Это неизбежно порождает механизацию чувственности и всех возможностей восприятия («деантропологизация мира» [ 23, с. 23 ] ). Человек обретает свойства материи.
Отсюда — некоторая монополизация уральцев на самоописание производственного процесса. Они критикуют многих пролетарских авторов, совсем не знакомых со спецификой промышленности: «Там, в Москве, не зная домны, // Поэт поет про свист колес. // На Урале дни как бревна...» [1]. По мнению рецензентов, выбор производственных тем авторами «Маховика» выявлял пролетарский характер Юж- ного Урала: «В других городах редакции не знают, куда деваться от институток, пишущих бездарные рифмы насчет «святой любви», «роз», «слез», «грез» и прочих надоевших перепевов старых романсов» [12, с. 21].
При этом показано, что «искр железное цветенье» — вовсе не для женщин. Так, Трегубенков рассказывает историю девушки, работавшей на заводе, но умершей от чахотки. Подчеркивая ее прилежность в труде, автор все-таки признает, что «девичьи руки, плечи / Железу не родня» [ 21 ] . Он наблюдает, как «вянет тихо нежность — / бледней лицо ее». Однако автор любуется девушкой, причастность к производственному процессу делает ее прекрасной. Ведь наступает эпоха восприятия машины как эстетического объекта, как решающего фактора в формировании новой среды, художественной в том числе. С другой стороны, женский труд становится атрибутом смены вех, отказа от различного рода зависимостей, в том числе гендерных, прекращения действия ограничений, приобретения адекватных прав и обязанностей. В частности, в стихотворении «Катюша» речь идет о девушке, которую в прежние времена — «заплесневевшее гнилью старье» — ударил мастер. Ныне же ее выбрали членом в Горсовет [ 26 ] .
Эстетизацию и поэтизацию борьбы с косной материей вследствие революционных преобразований советского социума в числе прочих отразил концепт человеческой переплавки, «перековки», перерождения. Правда, тексты «Маховика» свидетельствуют, что подобный генезис коснулся пока отдельных персонажей, которые стремятся вобрать окружающих в личное пространство перемен. Например, башкирин Акберды, получивший образование в Москве, читавший Маркса, возвращается домой в степь с целью просвещения земляков [ 10 ] . Или портной Арагин, работавший до революции на хозяина, злоупотреблявший алкоголем, в советское время назначается библиотекарем как один из немногих грамотных в деревне, прекращает пьянствовать [ 8 ] . Старик Аввакум в одной из глухих башкирских деревень сколачивает пионерский отряд, учит их петь новые песни, «ходить в ногу, писать по-русски “Ленин”, и в результате чего они почти все ближайшие деревья пометили этим именем» [ 24, с. 3 ] . Его односельчане-башкиры даже перестают бояться «шайтан-машины» (железной дороги). До революции «в бабьем стоне, да и ребячьем реве, как утопленник в тине, барахталась жизнь этих деревень. Занимались-ли башкиры когда посевом? А теперь свои и картошка и овес» [ 24, с. 3 ] . Для Аввакума рельсы в глуши, узколейка, символизируют грядущие перемены в башкирской деревне. Он верит, что лет через пять она широколейкой станет: «А гарантией этого может служить одно название местности «Урал», здесь такое богатство лесов и руд, что будущего Урала без большого числа металлургических заводов и представить нельзя» [ 24, с. 5 ] . Регион в этом смысле предстает одним из ключевых в грядущей индустриализации.
Лейтмотивом почти всех сочинений звучит суждение о том, что наступает время новых возможностей. Так, Харитонов вспоминает, что в отрочестве даже не мог предположить, что скоро «костры не полевые / растопят в сердце алый жар, / что новый путь для парня вылит / к незамиасским рубежам» [29]. Революция 1917 г. воспринимается как пространство вариантов для всех социальных групп. Как правило, положить конец старому патриархальному быту пытаются представители молодой части общества, наиболее активной, а главное — свободной от груза прошлого: «Мир по-иному строится! / Нам отцовский наказ не закон! / Без него и беззубой троицы / Мы сумеем прожить легко!...» [28]. Приверженность церкви признается атрибутом «темных веков» в противовес эпохе «коммунистического Просвещения». Борьба за новый советский быт и передовое мировоззрение обязательно включала дискредитацию религии в глазах верующих, для чего применяется широкий диапазон метафор, связанных со смертью вроде этой фразы «Машет золотым крестом синяя, как чахоточный труп, церковь» [18, с. 7].
Противоречия между молодежью и стариками не исчерпывались лишь поколенческим конфликтом. Хотя он остро обозначился во многих семьях вследствие резкой смены ценностной парадигмы в среде юношества. В частности, Трегубенков описывает девушку, влюбившуюся в комсомольца-матроса, отношения с которым не одобряет «старорежимный» отец («снятся ему хутора — / десятины, овины, храм божий» [ 20 ] ). Между тем, в литературе 1920-х гг любовные переживания вытесняются на периферию, превращаясь всего лишь в фон, на котором разворачивается главный конфликт. Девушка уже во власти иных идеалов: «Мне не надо богатство, цветов / влюбилась в семью комсомольцев. / Лучше связок амбарных ключей / (Где наживой отца жадность вспенена), / Комсомольские звоны речей / Под улыбкою солнечной Ленина» [ 20 ] . В другом стихотворении Трегубенкова конфликт отцов и детей оборачивается трагедией. Комсомолец отказывает девушке из-за ее «мелкобуржуазного» происхождения. Родители сватают ее в «чужой богатый дом», чтобы сделать дочь «статьей доходною» [ 22 ] . В итоге героиня утопилась.
В этом произведении также затронута тема поляризации общества вследствие НЭПа, возродившего некоторые элементы капитализма, в том числе, эксплуатацию. Обнищание основной массы крестьян нередко оборачивалось насилием в отношении семей, которые «надували бедняков». В бытовом очерке Озорнина описана история борьбы крестьян с такими «кровопийцами» и «ожившими толстопузами». По случаю праздника деревни на улицах оказалась пьяная толпа, которая направилась в сторону дома зажиточного мужика Савельева. В его доме разбили стекла и сломали ворота. «Смутьяны… народ смутьянить. Передела им не надо <…> Нет, не то время, чтобы им верховодить» [ 14, с. 9 ] , — так старейшины деревни оценивают причины погрома, одобряя подобные радикальные методы.
Таким образом, литературный материал журнала «Маховик» можно рассматривать как своеобразный текст самоописания, самопрезентации времени и пространства, картины быта и бытия человека, живущего в нем. Реконструкция воз- можных языков самоописания позволяет выявить динамику развития нарратива под воздействием общественно-политических событий. В 1920-е гг. все происходящее вокруг воспринималось как проекция произошедшего революционного переворота и Гражданской войны. Складывается новый эпос, раскрывающий исторический смысл этих рубежных событий в истории России и всего человечества. Этот дискурс доминировал над всеми остальными в советском обществе вплоть до ВОВ.
По мнению историка И.В. Нарского, после пережитого «современники приняли с пониманием предложение большевиков представить жизнь во время революции как непрерывное и сознательное геройство. По этой причине переосмысление недавнего былого проходило не только “сверху”, но и “снизу”. Оно позволяло найти смысл неожиданно ставшей бессмысленной жизни и перекодировать и героизировать индивидуальный опыт» [ 11, с. 155 ] .
Адресатом, а значит, центром конструирования социальной картины выступают в журнале рабочие, которые пишут о себе и для себя. Революция вовлекла в орбиту своего притяжения широкие массы населения, прежде далекие от культурной сферы. Революция как наивысшая реальность меняет не только время и пространство, но даже природу: «в небе кумачевый всполох / разбросал меж облаков цветы» [ 27 ] . Однако стоит подчеркнуть, что историко-революционная тема оказывается менее раскрытой, чем производственная.
Репрезентация центрального персонажа (рабочего) в «Маховике» опирается на использование металлургических образов. Предпринимаются первые попытки наделения этими свойствами коммунистов, но пока их — немного среди героев, они сотканы из сомнений, лишены качеств, свойственных железу и пламени. Да и образы самих рабочих — двойственны: большинство из них еще не покончили с деревенским образом жизни и мировоззрением. Вследствие этого языковая специфика большинства авторов заключена в использовании, с одной стороны, простонаречий, диалектов и даже ненормативной лексики, а с другой — узкоспециальных технических терминов, связанных с индустрией.
Многим текстам сопутствуют неоднозначные оценки политики большевиков, особенно из-за голода. Признается, что за годы революции и Гражданской войны произошло крушение властных структур, наступила анархия. Разрушилась нормальная повседневность. Показано, что далеко не все персонажи являют собой адептов коммунистической веры. Это, помимо прочего, подтверждает и немногочисленность героев-коммунистов в сочинениях. Безусловно, авторы пытаются донести до читателей, что пролетариат есть главная социальная база большевиков: он динамично развивается, представляет собой организованную силу, в царской России его экономически ущемляли. Однако им не удается показать рабочих идейными борцами. В частности, согласно «Песне рабочего поэта» П. Есельсона складывается впечатление, что героя-машиниста случайно «закрутил революции вал». Возвратившись с полей Первой мировой войны в 1918 г., он оказывается никому не нужен, жена выходит за другого. Оттого он возвращается опять «огневую встречать весну» Причем, в стихотворении не уточнено, за какую группировку он воюет, вероятно, за «красных» в силу пролетарского происхождения.
Дифференциацию общества заново в 1920-е гг., в том числе, отражает конфликт протагонистов (коммунисты, рабочие, комсомольцы, рабкоры, солдаты, матросы) и антагонистов (верующие, зажиточные крестьяне, белогвардейцы, «старорежимные» родители). Вслед за новыми характерами, а точнее, вместе с ними неизбежно появляются и небывалые ранее конфликты, рассказываются невозможные прежде истории. При этом, в отличие от литературы и драматургии 1920-х гг., златоустовцы дают мало образов «новых женщин». Это, вероятно, объяснялось тяжестью работы на заводе, кроме которого, других сфер реализации пока не было на Южном Урале до первых пятилеток. Вследствие ликбеза и создания учебных заведений советские женщины смогут занять любую должность в советском социуме.
Отдельные произведения «Маховика» представляют производственный жанр, отражающий изменения духовного облика страны. Завод становится культовой постройкой, не только в переносном, но и в прямом смысле. В целом, читатели могут наблюдать процесс рождения советских сюжетов. Между тем, анализ произведений показывает, что авторы стремились не просто адаптировать предложенный «сверху» дискурс (вербальный и визуальный), но и дать собственные варианты рационализации «своего» места. Очевидно, что идентичность Урала вообще и его южной части определена промышленным освоением края. Почти каждый городок здесь можно описать так: «У горы наш завод притулился, / Рядом с ним протекает река» [4]. Атрибутом самоописания уральского ландшафта неотъемлемо выступают очертания труб: «Виднелась одинокая в строгости заводская труба с распластанным синим дымом, как у голландской рыбачки по ветру платок, вслед уходящему в море мужу и сыну» [9, с. 2]. Между тем, регион представлен как уникальный паттерн, чрезвычайно богатый различными ресурсами (природными, людскими) и памятью о минувшем. Урал показан этнически пестрым, кросскультурным, по-ликонфессиональным. «Бархатные горы», «седые утесы», «простор приуральских лугов / расстелился ковром к небосводу» — эти и другие эпитеты поэтизируют уральское пространство. Один автор даже признается, что ему «милее бешеная вьюга / на хребтах сурового Урала», чем «вечеровая прелесть» Крыма [27]. Все это не позволяет сложиться впечатлению, что Южный Урал занимал мало места в пространстве России.
Самоописание есть совокупность представлений, которые можно увидеть в текстах. Всякое описание выступает преимущественно как современное. Время определяет и предмет интереса. В этом смысле произведения показывают, как ускоряется время. «Ветер перемен» описал еще нарком просвещения А. В. Луначарский: «В прежнее время можно было уснуть, два года проспать и, проснувшись, продолжать жить, как ни в чем не бывало. Жизнь ехала, как колымага, а сейчас она бешено мчится. События за событиями, кризис за кризисом, — и наша эмоциональная жизнь, бесспорно, более кипуча, ярка и разнообразна...» [ 6, с. 99 ] . Причем, самыми пластичными в этом смысле оказываются молодежь и дети. Именно они воспринимаются как будущие строители, «парничок», как называл один из героев Аввакум пионеров. Для первостроителей СССР будущее парадоксально оказывалось более вещественным, неизбежным и даже реальным, нежели настоящее, а тем более прошлое.
Невзирая на слабость и самодеятельность львиной доли текстов, они по-своему показательны. Они отражают историко-литературные тенденции эпохи и изображают героев и антигероев в качестве производных от времени и пространства. Нарративу присущи наличие апелляции к современности и позиция автора. «Маховик» продолжает зародившуюся на рубеже веков традицию «газетной» (точнее, «журнальной») литературы с такими присущими чертами как документальность, фотографичность, простота, понятность. Но уже с новой советской «начинкой», ориентируясь на текущую повседневность и широкого читателя. В журнале отражается один из трендов первой половины 1920-х гг., а именно: приход в мир периодической печати рабочей и крестьянской молодежи, активно получающей образование и стремящейся к вербальному самовыражению и поиску новых языков, соответствующих требованиям времени. Набор этих языков неизменно располагается на границе литературы и факта.
Это во многом любительское творчество создавало очаги собственной общественно-культурной жизни, способствовало консолидации и вызреванию собственных литературных сил и авторов. Как и мно- гие издания периодической печати, малочисленные в провинции, после эпохи «военного коммунизма», в период до и после революции, журнал «Маховик» начинает выполнять в Златоусте функцию создания и организации публичного пространства, участвует в формировании самосознания региона и его общей культуры.
Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-04-00118 «На границе литературы и факта: языки самоописания в периодической печати Урала и Северного Приуралья XIX — первой трети ХХ века»
Список литературы "Мир по-иному строится!": самоописание в литературно-техническом журнале "Маховик"
- А. М. В Златоуст / М. А. // Маховик. - 1925. - № 2. - С. 17.
- Большаков, К. Четырнадцатое декабря / К. Большаков // Маховик. - 1926. - № 1. - С. 8.
- Васильев И. Е. «Огонь» и «металл» как текстообразующие реалии в пореволюицооной поэзии Урала / И. Е. Васильев // Литература Урала: история и современность: сб. ст. - Вып. 4: локальные тексты и типы региональных нарративов; Ин-т истории и археологии УрО РАН. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. - C. 238-244.
- Гошка-комсомолец. Опять к станку // Маховик. - 1926. - № 2. - С. 11.
- Гудкова В. В. Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920-х - начала 1930-х годов / В. В. Гудкова. - М.: Новое литературное обозрение, 2008. - 453 с.
- Добренко Е. Красный день календаря: советский человек между временем и историей / Е. Добренко // Советское богатство: статьи о культуре, литературе и кино. К 60-летию Ханса Гюнтера; под ред. М. Балиной, Е. Добренко, Ю. Мурашова. - СПб.: Академический проект, 2002. - 448 с.
- Есельсон П. Песня рабочего поэта. Под стук поршня / П. Есельсон // Маховик. - 1925. - № 12. - С. 7.
- Модный, П. Алексей Арагин / П. Модный // Маховик. - 1926. - № 4. - С. 2-3.
- Мор, А. Расстрел Фридриха Крауса / А. Мор // Маховик. - 1925. - № 2. - С. 2-4.
- Морисон, А. Эрем (песнь степи) / А. Морисон // Маховик. - 1924. - № 9. - С. 1-3.
- Нарский, И. В. Октябрьская революция 1917 года в советской и российской коллективной памяти / И. В. Нарский // Вестник ВЭГУ. - 2017. - № 2 (88). - С. 151-164.
- Новогрудский, Н. Рабочее творчество / Н. Новогрудский // Маховик. - 1923. - № 4. - С. 19-21.
- Озорнин, П. Михайловка / П. Озорнин // Маховик. - 1925. - № 11. - С. 2-4.
- Озорнин, П. Смутьяны: бытовой очерк / П. Озорнин // Маховик. - 1925. - № 11. - С. 8-9.
- Подорога, В. Homo ex machina. Авангард и его машины. Эстетика новой формы / В. Подорога // Логос. - 2010. - № 1 (74). - С. 22-50.
- Просветов, К. В тяжелые дни. Рассказ из голодного времени / К. Просветов // Маховик. - 1923. - № 1. - С. 1-4.
- Просветов, К. Меркул (эпизод из комсомольского прошлого) / К. Просветов // Маховик. - 1924. - № 2. - С. 12-15.
- Просветов, К. Почему работал пулемет / К. Просветов // Маховик. - 1924. - № 10. - С. 3-9.
- Соловьев, В. Турбина / В. Соловьев // Маховик. - 1925. - № 4. - С. 13.
- Трегубенков, П. Из клуба / П. Трегубенков // Маховик. - 1926. - № 4. - С. 7.
- Трегубенков, П. Одна из многих / П. Трегубенков // Маховик. - 1926. - № 5. - С. 10.
- Трегубенков П. Песня // Маховик. - 1926. - № 4. - С. 7.
- Трегубенков, П. Песня искр/ П. Трегубенков // Маховик. - 1926. - № 4. - С. 4.
- Три-Зе, М. Рельсы в глуши / М. Три-Зе // Маховик. - 1925. - № 9. - С. 1 - 6.
- Уткин. Прокатчики / Уткин // Мартен. - 1924. - № 2. - С. 22.
- Феоктистов, П. Катюша / П. Феоктистов // Маховик. - 1926. - № 5. - С. 10.
- Харитонов, Н. В Крыму / Н. Харитонов // Маховик. - 1925. - № 10. - С. 3.
- Харитонов Н. Любовь полевая // Маховик. - 1925. - № 9. - С. 7.
- Харитонов, Н. Ночное / Н. Харитонов // Маховик. - 1925. - № 10. - С. 7.
- Шелест, Л. Из поэмы «Дни» / Л. Шелест // Маховик. - 1926. - № 7. - С. 5.