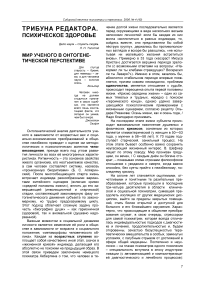Мир ученого в онтогенетической перспективе
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 4 (42), 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295164
IDR: 14295164
Текст статьи Мир ученого в онтогенетической перспективе
МИР УЧЕНОГО В ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Для глупца старость – бремя, для невежды – зима, а для человека науки – золотая осень.
Вольтер
Человек никогда не должен стыдиться признания в своих ошибках, это является всего лишь констатацией факта, что сегодня он умнее, чем был вчера.
Джонатан Свифт
Онтогенетический анализ деятельности ученого в зависимости от возрастных вех и социально-экономических преобразований в обществе неизбежно приводит к оценке им методологических и психологических аспектов человековедения , прежде всего под углом развития личности во всех её многогранных характеристиках. Ритмичность – это основное свойство живого организма, его неотъемлемое качество, а сам человек составляет систему, насквозь «пронизанную биоритмами» (Б. С. Алякринский). После многообещающего старта жизнь встречает индивида разнообразными вариантами житейского сценария (включая кризис «средней половины жизни»), вплоть до его завершающей (инволюционной и старческой) стадии, составляющей закономерную фазу онтогенетического движения субъекта по закономерному, но трудно предсказуемому циклу. Этот подход облегчает сложную задачу прочесть «биографию души» – как гармоничной (здоровой), так и аномальной (душевно надорванной).
Важным моментом в социальной динамике личности является изменение её роли в обществе в зависимости от возраста и социального положения, «метаморфозы человеческого облика». Каждая из возрастных ступенек воплощает собой качественно иной этап, скачок в «жизненной кривой» индивида, делающий его абсолютно не похожим на предыдущий образ. В этой связи приведем заключение немецкого психиатра Хёберлина о том, что человек в те- чение долгой жизни последовательно является перед окружающими в виде нескольких весьма непохожих личностей: если бы каждая из них могла «воплотиться в разных индивидах, то, сойдясь вместе, они представляли бы собой пёструю группу», держались бы противоположных взглядов и вскоре бы разошлись, «не испытывая ни малейшего желания встретиться вновь». Примерно в 33 года («возраст Иисуса Христа») достигается вершина периода зрелости (с возможными ответами на вопросы: «Накормил ли ты хлебами страждущих? Воскресил ли ты Лазаря?»). Именно в этом, казалось бы, абсолютно стабильном периоде впервые появляется, причем совсем неожиданно, проблема одиночества, меняется отношение к судьбе, происходит переоценка опыта первой половины жизни. «Кризис середины жизни» – один из самых тяжелых и трудных, нередко с поиском «героического конца», однако удачно завершающийся психологическим примирением с жизненным сценарием, согласно рецепту Эльдара Рязанова: Осень жизни, как и осень года, / Надо благодарно принимать.
На последнем этапе жизни субъекта происходит максимальное накопление душевных и физических кризисов , основным из которых является климактерический (у женщин в 50—53 года, у мужчин в 56—58 лет). К 70 годам подступает старческий, сенильный процесс. На этом этапе бывает особенно важно сохранить неугасающий жизненный интерес. В. Шефнер пишет по этому поводу: Мир пронизан грядущим, он вечен, / С каждым днём он богаче стократ, – показывая этими строками философское отношение к увяданию и смерти, когда важно спокойно, без суеты прийти к неизбежному, последнему кризису.
На склоне лет становятся ощутимыми, отчетливыми и понятными те разительные преобразования, которые произошли в последние три-четыре десятилетия в области клинической и социальной психиатрии, сумевшей преодолеть изоляцию от других медицинских дисциплин, выйти за пределы закрытых помещений, стать более открытой и доступной для больного и его ближайшего окружения. Характерно, что происходящие в обществе преобразования служат, в свою очередь, стрессором для самой психиатрии, которая всегда отличалась индивидуальностью подходов к диагностике и лечению, продолжительностью и, будем откровенны, зачастую безуспешностью терапевтических вмешательств в особых, замкнутых условиях, с пагубным отрывом от достижений в сфере общей медицины. Постепенно и неуклонно – на глазах психиатров одного поколения – специальность вступила в эпоху индустриализации (с автоматизацией и компьютеризацией диагностического и лечебного процессов):
это заставило коренным образом пересмотреть её теоретико-методологические принципы, нозологические границы, дифференциальные, реадаптационные и превентивные подходы, классификационные и прогностические критерии, оценить значение социальных, региональных, траскультуральных факторов в происхождении психических расстройств.
На повестку дня для специалиста (прежде всего в области малой, «пограничной» психиатрии) выдвигается потребность в углубленном знании современных достижений в сфере кл и н и ч еско й п е рсо н оло ги и, составляющей в последнее время объект моего пристального интереса к теории и методологии человековедения, прежде всего с позиции онтогенетического анализа. Вполне определенно, что с возрастом мы не становимся лучше или хуже, а лишь более похожи на самих себя: здесь очень важно умение достойно пройти по солнечной стороне жизни, сохранить ясность ума, человеколюбие и благожелательную коммуникацию, помня, что человек безудержных страстей привлекателен только на страницах художественной литературы, а в повседневной жизни здоровые и надежные интерперсональные контакты ценятся на вес золота (вспомним высказывание американки Э. Голдман: «Когда мы не можем мечтать, мы умираем»), сохраняя прелесть «благоухания седин» (З. Н. Гиппиус).
Другую ценность составляет теплота человеческих сердец, понимание своей роли в процессе развития общественных связей. Диалектика взаимоотношений человека и общества прекрасно оценена трагическим писателем-прозаиком Андреем Платоновым1: «Человечество – одно дыхание, одно живое теплое существо. Больно одному – больно всем. Умирает один – мертвеют все». И далее весьма любопытный пассаж в понимании роли человека в науке: «Наука – красавица, но только своими одеждами. Она – свет, чистый и до конца прозрачный. Но не теплый, не холодный. Этот не моргающий глаз человечества смотрит и смотрит, но не любуется и не думает, и, как глаз, наука нужна, чтобы только видеть и освещать». Важно верить в возможность беспредельного развития человечества, в его способность найти великие цели, выработать гуманистические связи человека с другими людьми, с иными поколениями – ушедшими и грядущими. Лишь в этом случае жизнь конкретного индивида может стать бесценным достоянием эпохи, достичь небывалого «расцвета» человечности в человеке. Для этого нужен поиск индивидуальных нестандартных форм единения, решая «идеи» жизни путем расширения, открытия дерзновен- ного разума ученых, совокупного ума науки. Считается важным превратить людей из одержимых одиночеством, скукой, отчужденных существ, собранных в толпы, в стройную силу, в творцов единого Дела. В последнее время происходит космизация научного знания, его проникновение в познание тайны звездного мира над нами и нравственного закона внутри нас (по И. Канту), в действенный синтез естественных и гуманитарных наук.
Накопленный врачебный, педагогический и исследовательский опыт позволяет очертить творческий мир ученого, сосредоточенный, по моему мнению, в рамках основных объектов действия: кабинет – постель больного – кафедра. Последняя является великой школой личностного совершенствования и взаимообога-щения, генератором творческих идей, источником душевного удовлетворения от повседневного общения с молодежью, невольного и успешного тренинга интеллекта, достижения нравственной гармонии и чувства собственной значимости. Мир ученого – особая душевная субстанция, неповторимая, ранимая, слабо защищенная, требующая социальной поддержки и патронажа, особенно в наше нелегкое и быстро меняющееся время (на память приходит старая сентенция: «Жизнь – каникулы перед смертью»). Для человека, обращенного всеми своими чувствами во внешний мир, уместно привести высказывание американского политического деятеля Хилари Клинтон, стойко перенесшей факт измены своего знаменитого супруга: «Служение ближнему – эта плата, которую мы платим за жизнь». «Человеку в науке», особенно на заключительном этапе жизни, позволительно оглянуться в прошлое и задуматься о предстоящих путях будущего развития. Особенно острые переживания возникают у тех, кто посвятил свою жизнь медицине: ведь именно она «учит ненавидеть смерть и людей, её приносящих». Великий Парацельс утверждал: «Сила врача – в его сердце. Величайшая основа лекарства – любовь». И ненависть к смерти, и любовь к жизни будущий врач приобретает в стенах своей alma mater, от своих мудрых наставников, щедро делившихся своими знаниями и опытом. Диалектика такого взаимодействия и взаимообогащения делает обучающегося в области медицины несоизмеримо богаче его изначальных человеческих качеств, ставит на прочную нравственную основу, о которой прекрасно говорил величайший психиатр С. С. Корсаков: «Высота человека измеряется не тем, сколько благ ему дают, а тем, сколько он вносит в мир». На стыке эпох наиболее ощутимыми становятся достижения и уроки наших незабвенных корифеев врачебного искусства, в полной мере осознаваемыми становятся их стремление пролагать путь «для новой жизни» и сквозь «потрясения, бури и щедроты души воспламененной» (Б. Пастернак), их попытки скрепить разум и совесть представителей разных эпох и поколений в единое человеческое сообщество, отчетливо осознающего свою ответственность за прошлое, настоящее и будущее.
Критическое обозрение истории нашей научной дисциплины – психологии и психиатрии – свидетельствует о качественно иной характеристике существующей политической, экономической, технологической и научной обстановки не только в нашей стране, но и во всем мире: от сугубо описательной деятельности непосредственно у постели больного к продуктивному использованию в своей клинической, диагностической и терапевтической практике богатого арсенала новейших технологических средств и приемов.
Содружество науки и практики обеспечило академической науке восточного региона России общепризнанное лидерство и безусловный приоритет по основным клиническим дисциплинам в медицине. «Пальма первенства» в этих научных направлениях принадлежит превентивным технологиям и интегральным программам ранней диагностики и предупреждения хронических неинфекционных заболеваний, являющихся актуальнейшим разделом регионального здравоохранения и медицинской науки. Решение сложных задач совершенствования новейших технологий диагностики, терапии и профилактики в психиатрии и наркологии связано с неуклонным развитием этих медицинских дисциплин, формированием научных школ и направлений. В этой связи целесообразно еще раз вернуться к определению научных школ, формирование которых является главной целью научно-исследовательских коллективов.
Научная школа – это группа людей, объединенных стремлением решить определенную задачу, важную и нужную для науки. Эти люди готовы отдать свои силы и талант для решения поставленной задачи, они готовы преодолеть трудности, испытать лишения. Однако этого мало. Для успешного раз в и т и я научной школы необходимо, чтобы во главе её стоял лидер – человек, дальше всех видящий и глубже всех понимающий смысл и значение поставленной задачи, лучше всех знающий, какими методами можно её решать. А. О. Эдельштейн (1946) под понятием «школы» подразумевает «способность ученого создавать, воспитывать и оставлять после себя группу учеников, объединенных единством научных взглядов, системой мировоззрений и основных подходов в разрешении клинических проблем».
В целом анализ роли и места отдельных школ, их направлений в современной психиатрической науке облегчает формирование дей- ственных федеральных, региональных и муниципальных программ в области охраны и укрепления психического здоровья россиян, опирающихся на всестороннюю оценку специфики «местных условий». Придание новых общественных и научных импульсов идее превенции отечественной медицины должно быть поддержано тезисом: «Не у постели больного, а раньше, когда человек здоров, надо начинать нашу работу».
Новые пути и перспективы развития сибирской психологии и психиатрии видятся нам в разработке следующих направлений : превентивная психиатрия и наркология, транскультуральная психиатрия, этнопсихиатрия и этнонаркология, валеопсихология и психотерапия, клиническая персонология, пенитенциарная психология и психиатрия, онтогенетическая психиатрия (в том числе микропсихиатрия и пограничная геронтопсихиатрия и наркология), психиатрия кризисных состояний, психология и психиатрия социального сиротства, пограничная онкопсихиатрия, психопатология пароксизмальных состояний, экологическая психиатрия, психогении современного общества и качество жизни, клиника и динамика «истерической болезни», «астенической болезни», региональный аспект организационной психиатрии и наркологии.
Ученые моего поколения прошли сложный, но славный путь «сквозь тернии к звездам», преодолели трудную, тревожную, полную надежд и свершений дистанцию, сохранив «сан жреца, а вместе с ним и свою ответственность», а сама жизнь их и впредь «останется такой же, как сегодня, трудной, тревожной, героической и возвышенной» (А. Моруа): многого удалось достичь, но кое-чем пришлось пожертвовать и отступиться. Однако в новейших социально-экономических условиях потребуется ещё большая концентрация сил и творческой энергии на самых важных, существенных проблемах своей науки, на пути к постижению человеческого облика. Сбывается предсказание Марии Эбнер-Эшенбах, что «в молодости мы учимся, в старости понимаем», поскольку в этом возрасте «ум просветляется».
Происходящее в последние десятилетия конструктивное сближение позиций разных дисциплин (а нередко и их фактический симбиоз) во многом продиктована велением времени: именно в зоне «искрящихся контактов» нередко достигается неожиданное и довольно радикальное разрешение прежде «непостижимых» узловых вопросов и прежних тупиковых ситуаций в отдельных научных областях знаний, устранение исторически сложившихся «изоляционистских» тенденций и появление теоретикометодологического взаимопонимания. Можно с высокой долей вероятности прогнозировать преодоление существующих кризисных явлений и выразить надежду, что человековедение на стыке двух тысячелетий и социальных эпох обретёт «второе дыхание».
Подводя итоги ушедшего в недавнее прошлое сложного и противоречивого ХХ века, «века высшего ужаса и великого прозрения» (А. Вознесенский), отметим колоссальные усилия в сфере коллективной ответственности за выживание нации, преодоление «подводных рифов» всё более усложняющихся макро- и микросоциальных взаимоотношений, угрозы природных и техногенных катаклизмов, различных социальных «цунами» в виде межэтнических конфликтов, криминального беспредела, наркотического обвала, трудноостановимого СПИДа, «экологических синдромов утомления популяции и этноса», исчезновения стимула «инстинкта воспроизводства» (В. П. Казначеев) и др. В области психиатрической науки и практики первоочередной является важная нравственная задача – поднять престиж профессии, преодолеть общественные попытки «демонизи-рования» образа врача-психиатра, решать насущные проблемы дезалиенизации, комплай-енса, ранней диагностики, «общественной психотерапии» и направленной превенции психической патологии. В постижении стратегии здоровья чрезвычайно важно формирование способности к адаптации, самосохранению и саморазвитию, достижению всё более содержательной и разнообразной деятельности. Повышение «качества жизни» и продолжительности творческой активности во многом зависит от поведенческих факторов, предупреждающих (или, напротив, усиливающих) формирование «хронического подтипа патологии человека»: предупреждать болезнь, обеспечивать «самовозрастающее здоровье нации» – вот основные целеполагающие ориентиры описываемой нами превентивной психиатрии и валеопсихологии (Семке В. Я., 1999).
Раскрывая ближайшие и более далекие горизонты в перспективе становления врача-психиатра новой формации, следует со всей убежденностью говорить о необходимости его «вооружения» не только накопленным арсеналом многих поколений клиницистов, но и новейшими данными из области фундаментальных нейронаук (иммунологические, генетические, нейрофизиологические, биохимические, экспериментально-психологические исследования), которые пронизывают образование современного врача. Согласно мнению Н.П. Боч-кова2, врач-клиницист недалекого будущего обязан владеть основами генетической диагностики в такой же степени, как сосудистый хи- рург – знаниями топографии сосудов, понимать механизмы моральной общечеловеческой генетики, познавать морально-генетический код постижения «загадочных» причин аномального поведения личности. Новейшие времена определяют свои правила и условия реагирования человека на меняющиеся события: важно не растерять основополагающие ценности, делающие нас людьми. В этой связи нами делаются попытки совместно с Кемеровским ГУИН очертить перспективы «зоны знаний» в области пенитенциарной психологии и психиатрии (Семке В. Я., 2004), позволяющей сделать жизнь субъекта «в стесненных условиях» ограничения свободы более гуманной, целеполагающей и предсказуемой. Другой задачей в этом направлении является разработка (в кооперации с молодым коллективом ученых Института акушерства и перинатологии) актуальных проблем микропсихиатрии (Семке В. Я., 2004) как отправной точки в исследовании индивидуального цикла развития человека.
Современная сверхиндиустриальная цивилизация характеризуется все возрастающим динамизмом и нестабильностью. Данная позиция особенно приложима к оценке уровня психического здоровья (и нездоровья) малочисленных народностей, крайне чувствительно испытывающих «давление ускорения» научнотехнической революции с ее негативными личностными и социально-психологическими последствиями. Чрезвычайно важно избегать «шока будущего» (Тофлер Э., 1970), всех социальных колебаний традиционного уклада и образа жизни, «старых корней» этноса (религии, семьи, работы, функций группы и т. п.). Это заставляет искать новые инструменты и технологические решения укрепления устойчивости и приспособляемости как конкретных индивидов, так и целых этнических групп.
Транскультурология будущего, по нашему убеждению, должна стремиться к весьма земным целям – решать последствия межнациональной вражды и отчужденности, содействовать разрушению дискриминирующих рогаток как между странами, так и внутри них, учитывать интересы национально-культурной автономии без нарушения (со стороны индустриального пресса) этноэкологического базиса малочисленных народностей, избегая последствий кросскультурального стресса (рассматриваемого некоторыми авторами как вариант посттравматического стрессового расстройства).
На рубеже веков и тысячелетий возникает потребность в осмыслении методологических основ формирования пограничной и аддиктив-ной патологии – прежде всего валеопсихоло-гии (Семке В. Я., 1994) и клинической персо-нологии (Семке В. Я., 1999). Бурные процессы в сфере социальных и техногенных преобразо- ваний существенно отразились на сознании современного человека, который по уровню знаний и умений, по мировоззренческим представлениям, чувству причастности к происходящим в стране и мире событиям, широте взглядов и способностей становится моделью совершенствования человека будущего, ноэти-ческого (Кабрин В. И., 2000). Вместе с тем несомненен и негативный аспект процесса компьютеризации (одной из сторон которого становится интернет-зависимость), безудержного потока информации, быстроменяющихся условий социальной жизни с её ускоренными темпами и непредсказуемостью, социальными катаклизмами на конфессиональной основе, межэтническими спорами и др., который служит источником формирования сверхстрессовых воздействий (в их основе лежат социальнострессовые, посттравматические стрессовые расстройства). Широким спектром психогений современного общества вызвано формирование психиатрии чрезвычайных ситуаций, в русле которой разрабатываются способы оказания специфической помощи.
Деятельность в «заданных» границах предусматривает сохранение индивидуально связанного и ощутимого мира, прохождение по ступеням любви с наименьшими потерями и потрясениями, особенно на завершающем этапе существования, в моменты «когда ты ещё любишь жизнь, а она тебя уже нет» (Т. Клейн). Обычно у человека на первом месте в рейтинге значимых ценностей стоит семейное счастье, на втором – здоровье, на третьем – материальное благополучие. Важно использовать потенциал этой «триады» во всей полноте и рациональной пропорции, реализуя на практике программу «здравого смысла», вытекающую из представления геномной медицины. Рецепты такого рода действий чрезвычайно просты и доступны – оставаться добрым, открытым, альтруистическим, сохраняя себя, свой внутренний мир при любых условиях и возможных «переломах» в мировоззрении, стремясь к единственной цели нашей жизни – к счастью. Весьма любопытный и в некоторой степени парадоксальный взгляд на эту тему содержится в анализе «принудительного счастья» Паскаля Брюкнера3: счастье можно извлечь «из деяния и созерцания, из богатства и бедности, из добродетели и порока», однако культ счастья порождает конформизм, зависть – два недуга демократического общества. Человек может быть творцом собственного счастья, если он вменит себе в долг быть счастливым. Недаром А. Линкольн утверждал, что люди способны быть настолько счастливыми или несчастливыми, на- сколько сами того захотят. Счастье, согласно Аллену, не столько право, сколько обязанность человека. Между тем в современном обществе счастье стало не только объектом колоссальной индустрии (наряду с духовной пищей), но и «превращает трудности бытия в постоянную сладость». По-прежнему сохраняет свою значимость старая истина: «Здоровый дух в здоровом теле – вот истинный предел счастья, возможного в этом мире» (Джон Локк), что предотвращает переполнение «чаши впечатлений».
С этих позиций библейский период «собирания камней» есть начало эпохи новой жизни , которое не дает повода для удрученности, озабоченности, тревоги, а служит предметом для углубленного осмысления пройденного пути , критического осознания достигнутого, трезвого подведения итогов минувшего, определения возможных изменений в своей судьбе с более выверенным и здоровым уклоном, поиска выхода из частого душевного кризиса, имеющего несомненную онтогенетическую подоплеку.
Успешная реализация этих концептуальных подходов на нынешнем этапе развития научной мысли сопряжена, помимо громадных материальных затрат, с мобилизацией нравственных и идеологических усилий, с преодолением серьезных трудностей методологического порядка, с которыми мы все еще сталкиваемся. Поиск выхода из идеологического тупика и утверждение объединяющей идеи, несомненно, имеет свое преимущество, поскольку может стать важной исторической силой, цементирующей индивидуальную и общественную нравственность . Отсюда проистекает главная задача психиатров, наркологов и психотерапевтов на современном этапе развития медицинской науки – помочь людям реорганизовать себя, «пытаясь соединить в одной и той же рациональной перспективе дух и материю. Именно здесь проявляется столь ощутимо настоятельная необходимость перебросить мост между двумя берегами нашего существования – физическим и моральным, если мы хотим, чтобы духовная и материальная стороны нашей деятельности оживили друг друга» (П. Тейяр де Шарден). Своеобразие человеческой психологии определяется как его внутренними духовными установками, так и условиями социального окружения. С целью достижения и упрочения особого вида «социального капитала», коим является психическое здоровье молодых россиян, Президент России В. В. Путин выделил основной приоритет нового тысячелетия, делая акцент на том, что это «не битва идеологий, а острая конкуренция за качество жизни, национальное богатство и прогресс». Закончу же свое итоговое мнение словами гениального Карла Ясперса:
«Человек становится тем, что он есть благодаря делу, которое он считает своим».
Главный редактор В. Я. Семке