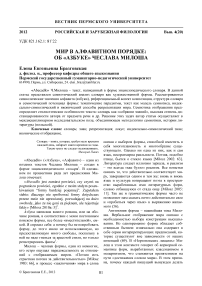Мир в алфавитном порядке: об «Азбуке» Чеслава Милоша
Автор: Бразговская Елена Евгеньевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
«Abecadło» Ч.Милоша – текст, написанный в форме энциклопедического словаря. В данной статье представлен семиотический анализ словаря как художественной формы. Рассматриваются символические значения алфавита (азбуки), референциальный аспект композиции, структура словаря и семиотический потенциал формы: тематические парадигмы, текст как модель семиозиса, индексально-символический и иконический способы репрезентации мира. Семиотика отображения предопределяет стилистические особенности текста: словарь как «собрание знаний», высокая степень дистанцированности автора от предмета речи и др. Решение этих задач автор статьи осуществляет в междисциплинарном исследовательском поле, объединяющем методологию семиотики, истории литературы (польской).
Словарь, знак, репрезентация, локус, индексально-символический знак, иконическое отображение
Короткий адрес: https://sciup.org/14729178
IDR: 14729178 | УДК: 821.162.1:
Текст научной статьи Мир в алфавитном порядке: об «Азбуке» Чеслава Милоша
Словарь – книга, которая, требуя мало времени каждый день, забирает много времени за годы.
Такую трату не следует недооценивать.
Милорад Павич
«Abecadło» («Азбука», «Алфавит») – один из поздних текстов Чеслава Милоша – создан в форме энциклопедического словаря 1. В сделанном по прошествии ряда лет предисловии Милош отмечает:
« Abecadło jest zamiast powieści, czy czymś na pograniczu powieści, zgodnie z moim stałym poszu-kiwaniem “formy bardziej pojemnej”. Zapytałem siebie: dlaczego nie spróbować formy dotychczas przeze mnie nie uprawianej, pozwalającej na dużo swobody, jako że nie goni za pięknem, ale rejestruje fakty» [Miłosz 2010а: 5]2.
Азбука написана вместо романа, или на обочине романа, в соответствии с моим постоянным поиском формы, все более «вместительной», емкой. Я спросил себя: а почему бы не попробовать форму, до этого мною не использованную, но предоставляющую много свободы, поскольку в ней не надо гнаться за красотой стиля, но только регистрировать факты3..
Милош – человек формы, один из немногих, кто остро ощущал парадоксальность ее отношений с отображаемым миром. «Поэзия есть страстная погоня за действительностью» [Miłosz 1983: 66], и процесс «заключения» мира в слова связан с выбором формы, способной вместить в себя многоплановость и многообразие существующего. Однако ни одна из них, как и сам язык, несоразмерна реальности. Поэзия, подобно птице, бьется о стекло языка [Miłosz 2002: 63]. Литература создает иллюзию зеркала, и реализм – это всегда «как будто» реализм. Все попытки сказать то, что действительно соответствует миру, завершаются одним и тем же: вновь и вновь язык и культура возвращают поэта в пространство выработанных ими литературных форм, словно отбившуюся от стада овцу [Miłosz 2005: 11]. Так же и грамматические формы часто не позволяют нам сказать нечто действительно свое и «пробиться через язык» к выражению желаемого (56).
Антиномия формы – важнейшая тема Милоша. Вербальное отображение мира связано с необходимостью выбора конструкции высказывания. Но одновременно форма обладает собственным бытием: изначально она содержит в себе серии интерпретирующих предписаний, которые существуют вне зависимости от наших интенций (69). В «Нортоновских лекциях» Милош в этом контексте говорит об априорной семантике форм, выработанных классицизмом и модернизмом, что становится препятствием на пути «достижения словом мира». В этом причина, почему каждый пишущий вынужден делать
выбор между «стремлением к миру» и «диктатом языка и культуры» [Miłosz 1983: 69–71].
На протяжении всей творческой жизни Милош пытался выйти на литературную форму, способную вобрать в себя жизнь, время и сознание. Она пребывает в пограничье между жанрами и способами речи, между поэзией и прозой, вне выработанных историей культуры конвенций. Отсюда и ее авторское определение: «formа bardziej pojemnа» – форма, способная «вместить» в себя более, нежели другие. Парадоксальная целостность текстов позднего Милоша4 создается в сопряжении поэзии, эссеистики, отдельных замечаний и фрагментарных размышлений (Милош именует их noty ), выписок из книг других авторов в форме «замечаний на полях прочитанных книг», пунктирно намеченных, но еще не написанных текстов, или, как сказано в «Придорожной собачонке», «тем, отданных другим авторам» [Miłosz 1998: 177]. Поставленная задача – создать текст о времени и о себе – требует новых повествовательных стратегий, поскольку акт письма непосредственно включается в культурный, идеологический, политический контекст эпохи [Абашева 2012: 202].
По существу, все указанные тексты посвящены проблеме самоопределения или самопознания. «Азбука» – это еще один «путеводитель по себе», для которого Милош выбирает жестко определенную форму энциклопедического словаря и следует ее канонам. Действительно, в структуру «Азбуки» входит 200 статей, расположенных в алфавитном порядке. Как и в обычном словаре, имеющем определенную тематическую направленность (например, энциклопедическом философском), в этой книге представлены тексты, создающие границы одной темы: ХХ век в биографии Милоша и одновременно Чеслав Милош в истории своего века. Среди статей «Азбуки» – персоналии-портреты поэтов, философов, художников, людей науки и искусства, размышления об этических категориях, философских понятиях, портретные зарисовки городов, стран и даже языков.
Почему же вполне определенная и зафиксированная конструкция словаря действительно становится в творчестве Милоша вершиной формы, способной отразить и «вобрать» в себя вехи интеллектуальной и духовной истории ХХ в., его трагедии, войны, смерти народов, личную судьбу поэта? Для определения круга возможностей словаря как литературной формы важно продвигаться от дескрипции формы к описанию ее семиотического потенциала (механизмов репрезентации действительности). Текст «Азбуки» будет рассматриваться как семантически открытое, но целостное пространство разно- тематических текстов; как знак, репрезентирующий фрагменты многомерной действительности по индексально-символическому и иконическо-му типам.
Словарь как композиционный и стилистический прием. Словарная форма – не единичный случай в литературе. Несомненно, что в культуре ХХ в. наиболее воспроизводимая литературная ассоциация со словарем – это «Хазарский словарь» М.Павича («роман-лексикон в 100000 слов»). Здесь словарная форма даже возводится в степень, поскольку это «словарь словарей о хазарском вопросе», состоящий из трех самостоятельных книг: «Красной», «Зеленой» и «Желтой». Каждая из них строится по принципу словаря, т.е. состоит из статей, расположенных в алфавитном порядке [Павич 2010].
Однако более близкий и точный контекст восприятия для милошевской «Азбуки» составят не роман-словарь Павича, а воспоминания, автобиографии, композиционной формой которых также стала система текстов, скрепляемая алфавитным расположением. Это книги польских писателей, публицистов Стефана Киселевского, Ежи Урбана, Антония Слонимского и Густава Херлинг-Грудзинского5. Интересно, что все они датируются концом ХХ в. и все, за исключением последней, созданы как автобиографический словарь воспоминаний . Не случайно А.Слонимский отмечал:
«Pisząc o innych oczywiście biorę pod uwagę przede wszystkim samego siebie» [Słonimski 1989: 5].
Когда я пишу о других, я, конечно же, имею в виду, прежде всего, самого себя.
Стилистический потенциал словарной формы рождается из символических значений знаков азбука и словарь . Слова азбука и алфавит (польск. аbecadło и аlfabet ) могут рассматриваться как синонимы, имеющие различное происхождение: первое есть греческое заимствование, второе – его славянская калька. Номинация азбука , образованная из названий первых букв ( аз, буки ), используется для обозначения системы базовых знаков какого-либо языка (нотная азбука), символизирует основания некоторой области знания (азбука общения). Азбука также есть книга элементарных знаний: учебник грамоты, букварь. Отсюда и англ. ABC book или польск. еlementarz .
Любой алфавит – это первичное приближение к сложному, поскольку он содержит знаки, число комбинаций которых позволяет говорить о возможности написания практически бесконечного числа письменных сообщений. Так, в «Вавилонской библиотеке» Борхеса «<…> можно обнаружить все возможные комбинации двадца- ти с чем-то знаков <…>». Причем любое сочетание букв, например, d h c m r l c h t d j, на каком-либо из языков библиотеки обязательно будет иметь смысл. Безграничность Библиотеки создается ее периодичностью: по прошествии веков те же сочетания букв могут повторяться «в том же беспорядке, который, будучи повторенным, становится порядком» [Борхес 2003: 145, 148, 150].
Выбор формы словаря, как объясняет Милош, был предуготован, во-первых, ощущением необходимости создать текст, в котором отразился бы весь ХХ в. Модные техники наррации (от первого лица и о себе) не годятся для создания романа, или, скорее, романа-репортажа – отчета о людях, событиях, идеях, трагедиях и радостях нашего столетия [Miłosz 1991: 116–117]. Роман о ХХ в. пишет тот, кто сам включен в пространственновременные границы столетия и собственной книги. Здесь, в отличие от истории как академической дисциплины или от автобиографии, автор намеренно «изымает» временнýю составляющую, создавая опространствленное время – многомерное пространство мысли о времени и культуре.
Априорное сомнение в истинности любых автобиографий стало второй предпосылкой «Азбуки». Все биографии, читаем у Милоша, в той или иной степени фальшивы. Их неистинность связана с тем, что жанр требует определенной логики изложения. Поэтому связи между отдельными эпизодами и событиями не те, что в действительности. Да и для того, чтобы осознать собственную жизнь в целостности, надо обладать возможностями Бога, взирающего на нас сверху. После прочтения автобиографии мы имеем, скорее, представление о раковине, нежели о живущей в ней улитке. Единственная действительная ценность биографий в том, что они позволяют нам войти в эпоху, вместившую данную жизнь (70). Как отмечает в предисловии к своему «Алфавиту» А.Слонимский, в словаре преодолевается конвенция описательных автобиографий, которая для современного читателя уже стала «балластом». Форма словаря позволяет обойти необходимость говорить обо всем по порядку, а сразу переходить к главному – мыслям, людям, состояниям сознания [Słonimski 1989: 5].
Словарь – это понятие, которое связано с азбукой по принципу дополнительности. В символическом значении словарь есть механизм упорядоченности безграничного универсума. Форма словаря позволяет сохранить ощущение множественности и бесконечности жизни, ведь чтение нелинейной структуры может начаться с любой статьи, благодаря чему мы можем продвигаться по книге в любом направлении.
«Азбука» как система локусов. Х.Заворска определяет текст Милоша как «собрание знаний в алфавитном порядке» («alfabetyczny zbiór wiedzy») [Zaworska 2011]. О чем это знание? С большой степенью условности в «Азбуке» можно выделить ряд «точек», к которым обращены воспоминания и размышления поэта. В сеть его жизни вплетены точки физического пространства, люди, персонажи интеллектуальной истории (этические категории, абстракции, религии, языки, книги). Все они существуют в форме знаковых репрезентаций – текстов различной степени «развернутости». Милош пишет о том, что города, страны, языки, люди постепенно «оседают» в нас, приобретая новый смысл и становясь текстами (160). Поскольку каждый из них имеет пространственное измерение и определенную степень дискретности, то может рассматриваться как локус [Мамардашвили, Пятигорский 1997: 68–69].
В «Азбуке» ХХ в. предстает как мозаика локусов различной онтологической природы. Милош на имплицитном уровне возвращается к идее многомерности мира: есть мир физический, но есть и его «оборотная сторона» – мир идей и универсалий. Физический мир представлен в словаре описанием стран, городов, пейзажей. Референты отображения в статьях о языках, религиях, идеях, напротив, не имеют отчетливой пространственной локализации. Скорее, их системой определяются границы интеллектуального пространства.
Мозаика локусов упорядочивается не только алфавитным порядком, но и по второй оси. Все упомянутые в книге люди, места, события, тексты, идеи собираются вместе сознанием автора, становятся знаками его способа мышления, очерчивают границы его индивидуальной картины мира и, в этом смысле, обретают локальность .
Структурирование словарных статей «Азбуки» по темам – одна из стратегий передвижения по этой книге. Начну с парадигмы статей, посвященных точкам физического пространства . В отличие от своих предков, никогда не покидавших границ родного уезда, Милош – это человек мира. Из номинаций, которые в «Азбуке» становятся заглавиями текстов или в них упоминаются, выстраивается сюжетная биографическая линия. Вильнюс (детство и университетская юность Милоша) – Варшава (воспоминания о жизни в оккупации) – Париж, Бри-Комт-Робер (первая эмиграция) – Вашингтон, Лос-Анжелес, Беркли, Коннектикут (вторая эмиграция Милоша) – вновь Польша, Краков (последнее земное пристанище).
Только на первый взгляд это локусы физического пространства. На самом деле, память хранит их в виде символа, который при «прочтении» разворачивается в текст. Так, символической репрезентацией Вильнюса становится совмещение пластов времен, языков и культур. Феномен этого города в том, что у него нет прошлого, он существует в одновременности «сегодня» и «вчера». Это возникшее в юности ощущение Милош вновь испытал в 1992 г., побывав в Вильнюсе после пятидесятилетнего отсутствия (214). Знак этого города – исключительная культурная множественность и «плодовитость» («wyjuątkowa kulturalna płodność»). Вильнюс всегда «колебался», «наклонялся» от одной культуры к другой. Однако его языки, религии, архитектурные стили не сменяли друг друга, не уходили в прошлое, но оставались, создавая все новые пересечения-тексты. И этот мультикультурный потенциал позднее обнаруживается в творчестве всех, кто провел в Вильнюсе свою юность [Miłosz 1979: 136–137].
Как «пространство пересечений», но теперь уже пейзажей, Милош вспоминает Беркли – второй по значимости город в его творческой биографии. Здесь вновь момент настоящего (виды Калифорнии – «экстракт американских просторов и человеческого одиночества») срастался с памятью о прошлом: литовскими пейзажами (70). Символом Коннектикута выбрано ощущение ухода («przemijalność»), связанное с осенью. С этим местом ассоциируются люди, которые в момент написания «Азбуки» уже стали тенью: Иосиф Бродский (Милош останавливался в его доме в Коннектикуте), профессор из Вильнюса Манфред Кридл, литовская знакомая Толя Бо-гуцка, в которую Милош когда-то был немного влюблен и которую здесь, в Америке, встретил уже как известного психиатра (102).
Для репрезентации бóльших по пространственной протяженности локусов – стран, государств – выбирается и более сложный способ отображения: символизация через систему бинарных оппозиций. Так, Америка (речь о США) – это пространство, где остро ощущается наличие «оборотной стороны» («przewrotność»). Доброжелательность людей странным образом оборачивается одиночеством каждого человека, богатство соседствует с нищетой, за спиной демократии маячит потенциальный тоталитаризм. Только выходец из Старого Света, – пишет Милош, – может в полной мере осознать, насколько эта страна актуализировала в ХХ в. «новое измерение пространства» («nowy wymiar») – творческий потенциал человека. Если в начале столетия интеллектуальный и культурный центр мира – это «старая» Европа, Франция, то в середине века художники, музыканты и писатели стремятся попасть в Америку. Поэзия, которую в Западной Европе к этому времени уже воспринимали как вид достаточно диковинного занятия (например, как нумизматику), нашла страстных почитателей в университетских кампусах. Западноевропейские поэты через переводы обретали популярность и известность, прежде всего, здесь, в Америке. Именно она открывала поэтам и возможность получения Нобелевской премии. В этом контексте Милош говорит, в частности, о себе и И.Бродском (34–37).
В той же мере амбивалентно отношение к Франции . С одной стороны, отмечает Милош, гимназия и университет воспитали в нем «западный снобизм», ощущение магнетической притягательности французской культуры. Но когда он оказался в послевоенной Франции в качестве политического эмигранта, на первый план вышел совсем другой образ: страна, где интеллектуальная элита с априорным недоверием смотрит на талант чужестранца (132–133).
В качестве пространственных локусов Милош рассматривает не только «точки» физического пространства, но и ментальные дискурсы – языки и абстрактные идеи-понятия . Любой язык, в особенности родной, материнский, становится домом человека: «Język jest <…> moim domem, z którym wędruję po świecie» (245). Милош считал, что место его рождения – это сначала польский язык, а потом уже Литва. Отсюда определение отношений поэта и языка: «za dom owienie w języku», существование внутри языкового дома. Отсутствие языка, на котором пишешь, есть своего рода бездомность, которая неуклонно ведет писателя к самоубийству – физическому или духовному [Miłosz 1992: 197]. «Укорененностью» в польском языке Милош объясняет, почему он не может писать на языках, ставших его «второй отчизной» – французском и, особенно, английском. «Мое мышление – пишет Милош, – очень тесно связано с коконом того языка, в котором я родился», и «чем дальше в пространстве меня заносила судьба (Калифорния – это все-таки достаточно далеко), тем больше искал я связи со своими истоками, с родным языком» [Miłosz 2006: 4, 10].
Внимание к языкам – это следствие особенностей лингвистической биографии самого поэта: необходимости в течение жизни осваивать пространства все новых систем коммуникации. По замечанию Т.Венцловы, Ч.Милош, как и И.Бродский, был поэтом, сущность которого определялась жизнью на границе языков. В этом смысле к нему приложимо определение кентавр :
«Byli centaurami – istnieli jednocześnie w dwóch porządkach, dwóch krajach, dwóch językach, dwóch czasach <…>» [Venclova 2007: 11].
Они были кентаврами – одновременно существовали в рамках двух систем, двух государств, в двух языках, двух временах <…>.
В «Азбуку» включены отдельные заметки о польском, английском, французском и русском языках. Неоднократно Милош упоминает о символизме языка вильнюсской архитектуры, о языке вещного мира, посредством которого с нами говорят Бог и Природа, приоткрывая для нас многообразие бесконечного мира. И вновь, как в случае с локусами физической природы, пространство каждого языка репрезентируется через собственный образ. Французский язык дает практически физическое ощущение классической соразмерности и ясности литературного стиля («klasycznа równowagа i klarowność») – предмет постоянных творческих поисков Милоша. Русский язык ассоциируется с «силой и семантической плотностью» строк Александра Пушкина: они живут в памяти, словно вырезанные на века резцом скульптора (135, 271)6.
Язык выполняет функцию пространственного локуса и для всего человечества. Язык есть отдельная страна, в которой пространственное измерение более значимо, нежели временнóе: не будучи современниками Мицкевича, мы встречаемся с ним в польском языке (358). Если язык – условие существование человека, тогда смена языка, как и любого локуса, влечет за собой не только расширение границ мира, но и, в определенной степени, трансформацию нашей индивидуальности:
-
<…> na pewno, zmieniając język, stajemy się kimś innym (245–246).
-
<…> совершенно точно, что, меняя язык, мы становимся кем-то другим.
В милошевском словаре многочисленны статьи о поэтах и писателях, философах, художниках, людях науки. Формально не все они принадлежат ХХ в., но это имена тех, чьи идеи век считал для себя крайне значимыми. Даже выборочным перечислением имен, включенных в индексальный указатель статей «Азбуки» (363– 384), создаются границы огромного интеллектуального и художественного пространства – «второго измерения», «оборотной стороны мира». Из мира литературы – это Достоевский, Бодлер, М.Домбровская, Овидий и Гораций, Бальзак, Р.Фрост, Г.Миллер и др. Из философов и логиков – Ж.Маритен, Дунс Скот, А.Тарский, А.Шопенгауэр. В этой парадигме и те, чье рождение обязано семиотической игре, творчеству, кто был создан в языке и теперь продолжает свое бытие в культуре. Это статьи о капитане Немо, об Адаме и Еве, о поэте Ароне Пирмасе (Первом), созданном воображением двух других поэтов – Теодора Буйницкого и Чеслава Милоша.
Следующий вид локусов «Азбуки» относится к наиболее парадоксальным. Это концептуальные понятия . Среди них Wiedza (Знание), Czas (Время), Centrum-peryferie (Центр-Периферия), Okrucieństwo (Жестокость), Anielska seksualność (Сексуальность ангелов), Autentyczność (Аутентичность), Nieszczęście (Несчастье), Współistnie-nie (Сосуществование) и др. С одной стороны, абстракции лишены отчетливой пространствен-но-временнóй локализации в физическом мире, что, казалось бы, не дает нам права говорить о них, как о локусах. С другой стороны, они – среда существования философа, «точки вхождения в мысль» [Мамардашвили 1997: 257]. Абстракции – это персонажи интеллектуальной истории. Большинство из них не имеют привязки к границам национальных языков и культур. Именно в этом смысле Милош говорит о «бездомности правды» [Miłosz 2010б: 228–238].
Концептуальные понятия образуют «внутреннюю келью» философа-поэта, которая всегда пребывает с ним, куда бы он ни перемещался во внешнем пространстве [Мамардашвили 1999: 68]. Собственный вариант смыслового раскрытия абстракций есть способ локализовать сознание в культуре. Как результат, интеллектуальное пространство мира подобно системе сот, куда каждый из нас кладет мед мысли, открытий, наших дел, жизней (102).
Вот пример вхождения в понятие Любопытство (Ciеkawość). Мир – это лабиринт. Мы бесконечно открываем в нем новые детали, подробности, этажи. Но и он не стоит на месте: растет, развивается, пульсирует. Наш интеллект – как подзорная труба, которую можно использовать для увеличения или уменьшения. Язык и наука «редуцируют подробности жизни»: им интересны классы и типы, а не индивидуальное. Любопытство же рождает желание «дотронуться» до каждой детали, назвать и прожить ее. Любопытство позволяет открыть новый угол зрения: увидеть освоенные ранее взглядом и мыслью вещи как неизвестные. Но, к сожалению, любопытство человека и его стремление к познанию не являются для Творца достаточным доводом против смерти (98–99, 198).
Исчезновение (Znikanie) – это идея, которая, как считал Милош, предопределила философию его творчества. Вещи и люди переходят за невидимую линию, разделяющую два мира («ziemskie i pozaziemskie»). Все подвластно закону, по которому ничто не зафиксировано, но все уходит. Единственный способ остановить уход мира – зафиксировать прошлое в знаках. Мой текст об ушедших, – пишет Милош, – это возможность обеспечить Присутствие Неприсутствующего («Obecna nieobecność») (358).
К понятию Anus mundi Милош особенно часто обращался в последние годы жизни:
«Okropność jest prawdą świata istot żywych, natomiast cywilizacja zajmuje się maskowaniem tej prawdy» (50).
Чудовищность, ужас – это правда живущих, однако цивилизация занимается ее маскировкой.
Милош задается вопросом, почему жизнь не любит смерти. Тело, покуда может, противопоставляет ей тепло циркулирующей крови и биение сердца. Стихи о гармонии, радости, которые пишутся в оккупированной Варшаве, – это бунт человека против смерти и уничтожения. Это мысль о том, что anus mundi – состояние временное, а далее придут покой и гармония (что, впрочем, очень сомнительно) (51).
Роль локусов выполняли для Милоша даже отдельные книги, которые, как он пишет, делают нас «многомерным существом» («istota wie-lowymiarowa»), подобным многоэтажному зданию (в этом смысле употребляется определение «budujące lektury»). Так, романы Достоевского укрепляли присущее Милошу ощущение невозможности спокойной и твердой Веры . Балансирование между верой и неверием, эрозия веры, необходимость сомнения заложены самой двойственной природой человека: сопряжением тела и души, жизни и ухода в вечность. Твердая вера, считает Милош, есть редкий дар. Да и истинно ли верит тот, кто не сомневается (113, 180)?
Само пространство культуры становится домом того, кто мысль и возможные миры литературы считает не менее реальными, чем мир физических форм:
«Byłem mieszkańcem krainy idealnej <…>. Tworzyły ją stare przekłady Biblii, pieśni kościelne, Kochanowski, Mickiewicz, poezja mnie współczesna» (246).
Я жил в стране <…>, которую создавали старые переводы Библии, псалмы, Кохановский, Мицкевич, современная мне поэзия.
Словарь как модель семиозиса. Алфавитный порядок – лишь внешняя, формальная организация «Азбуки». Наше сознание использует иную, единственно верную идею упорядочивания любого рода действительности – ассоциации [Miłosz 1979: 36]. «Азбука» и существует в виде семантической сети текстов. Внутренними ссылками в словаре создаются «узлы», позволяющие переходить от одного концептуального представления к другому. Не случайно первая статья носит название «А кстати» («A przecie»). Кстати – не вводное слово, а оператор ассоциативного мышления: думаешь о себе, и в каждую минуту ищешь связь с собой давним, с детством или с теми, кто тебя окружает. Каждое воспоминание мгновенно рождает сеть переходов к другим воспоминаниям. Любые попытки линейной организации мысли сразу же прерываются помыс-ленным по аналогии, этим самым «а кстати» (10). Ассоциации – это возможность «пересекать» разноуровневые пространства мысли. Одновременно, как считает Милош, они позволяют выйти за границы «стадного мышления», которое в нашем столетии известно под именем «политкорректность» (74).
Будучи формально словарем, «Азбука» актуализирует модель семиозиса (семиосферы) – пространства пересечения языков и текстов культуры. Ее семантическая структура выстраивается бинарными оппозициями, создающими границы авторской мысли. Среди основных оппозиций книги: вера – неверие, анонимность – авторство, исчезновение – зафиксированность . При этом мысль остается подвижной структурой, в которой семантический центр и периферия постоянно занимают новые позиции. Можно допустить, что центральной точкой каждый раз оказывается то понятие, которому посвящена статья. Именно оно для своего раскрытия переорганизует остальной массив словаря. Так, Исчезновение интерпретируется через Аутентичность , Время , Правда , Язык , Знание и др. Ассоциативные связи и постоянные перемещения понятий в новые парадигмы создают важнейший атрибут пространства мысли: его недискретность, континуальность. Память пожилого человека, пишет о себе Милош, подобна дому, который распахнут для голосов людей, мыслей тех, кого знал лично или с кем сближался по книгам внутри языка и культуры. Память – пространство, где сплетаются люди, события, языки, тексты (6). В этом контексте поэт говорит о страхе перед утратой само-тождественности, связи с самим собой, давним (10).
Сущность семиосферы – семантические пересечения текстов. Их семиотической природой определяется стилистический «характер» самой семиосферы. Каждый из текстов милошевской «Азбуки» – это знак, который возникает как результат отображения своего референта (фрагмента мира, сохраняемого памятью). Отображение возможно как индексальное, иконическое или символическое. Именно способ отображения определяет стилистику актуализации фрагментов мира и степень «наблюдаемости» ментального опыта автора.
Вопрос о том, насколько наблюдаемыми делает Милош систему локусов своей памяти, содержит парадоксальную неоднозначность. С одной стороны, Милош-поэт, равно как и Милош- философ, пишет о необходимости «достичь словом мира» («uchwycić rzeczywistość»). Наше внимание к деталям жизни, пристальный и очень доброжелательный взгляд на природу и людей («uważność») выступает предпосылкой того, что слово когда-либо сольется с вещью, станет одним целым с тем, что отражает (333). Детальное описание вещи (ее иконическое воспроизведение в языке) рождает у читателя отчетливое ощущение единения с миром («współistnienie») (255). Милош пишет: «…становясь одним целым с горой, цветком, пролетающей птицей, мы переживаем состояние эпифании» (309). Парадоксальность заключается в том, что Милош отмечает важность эпифаний, не создавая их.
Если говорить о его стилистике на языке семиотики, то очевидно следующее. Референты, принадлежащие физическому миру и интеллектуальному пространству, получают в словаре Милоша различную семиотическую актуализацию. Все, что зримо и наблюдаемо (города, улицы, пейзажи, люди), отображается по индексаль-но-символическому типу. И напротив, ненаблюдаемые абстракции актуализируются в икониче-ском описании.
В «Азбуке» он индексирует «подробности мира», упоминая голоса людей, ощущения, детали архитектуры городов и пейзажей: «Мои герои появляются на миг, словно в блеске молнии, я могу упомянуть незначительные, с чьей-то точки зрения, подробности, хотя, возможно, стоило бы говорить “вглубь”, детально» (358). И все же это не «чистые» индексы, подобные тем, что составляют списки имен и вещей. Индексом у Милоша отмечен не конкретный референт, но состояние, мысль, идея. Так, за именем Бодлера стоит «пограничье веры и неверия» (66), Сведенборг помогает выйти в пространство размышлений о необходимости возрождения ренессанского способа познания: единения науки и интуитивного (мистического) прозрения (310). А значит, речь идет об индексально-символических знаках , каждый из которых можно развернуть в дескрипцию или нарратив. Милош отмечает:
«<…> za każdą stronicą kryją się inne, które mogły być napisane» (5).
<…> за каждой страницей стоят другие, которые могли бы быть написаны.
Но как можно отобразить «объекты» интеллектуальной истории человечества – идеи, концептуальные понятия? Они лишены физической формы существования, и Милош прав, говоря о том, что метафизические слова превращаются в «этикетку», закрывающую пустоту. Абстракции закрыты надежным панцирем, недоступным мышлению и языку: «są opancerzone przeciw ro-zumowi» [Miłosz 2002: 66]. Однако любое поня- тие может быть «вписано» в пространство физического мира и человеческого восприятия. Что стоит за словом сосуществование? Ничего, если ты употребляешь его как философ, говоря о необходимости «ощущать единение с миром в каждой минуте». Но как и что именно надо ощущать? Если ты поэт, то ты переводишь абстрактное в режим реального бытия – данной тебе минуты. Представь: ты пишешь о дожде, туче, дереве. Где они существуют? На том листе бумаги, где ты пишешь. Лист бумаги живет в одновременности с деревом, возникшем на этом листе. Внимательно посмотрев на собственную запись, обнаружишь, что и ты сам (твое сознание, мысли и ощущения) существуешь внутри этой же картины. Теперь ты не сможешь перечислить ничего, чего бы там ни было: время, пространство, земля, мысли, люди. Все на этом листке бумаги! Вот это и есть сосуществование, или невозможность «быть в отделенности от всего, что есть» (335).
Визуализация абстракций («телесность» образа) – это отличительная черта «мыслящей» аналитической поэзии и, как считает Милош, перспективная линия современной философии и теологии. Милош очень точно ощутил движение современной философской мысли: от универсалий – к миру вещей. Еще в одном смысле можно говорить об использовании иконического способа отображения в милошевской «Азбуке». Это воспроизведение движения своей мысли, характера ассоциирования, направления взгляда.
Возможности словаря как художественной формы. И читатель, и автор, пишет Милош, балансируют между многогранностью правды и ее упрощением [Милош 2011: 13]. Как нельзя лучше это определяет выбранную Милошем форму словаря. С одной стороны, предельное упрощение: алфавитная систематизация материала. С другой стороны, собрание словарных статей – это «потенциальная» (т.е. еще не написанная, не развернутая) «повесть о нашей современности и нашей цивилизации» (5). И одновременно это книга о самом Милоше, включенном в пространство своего столетия, это его «интеллектуальная биография», не требующая никакой хронологии, попытка самоопределения ( a search for selfdefinition ).
Форма словаря предоставляет свободу пишущему и читающему. Руку автора направляет память о людях и событиях. У писателя нет времени, чтобы доводить все сказанное до стилистического совершенства («сyzelowanie»). Автор – одновременно наблюдатель истории и ее участник: его биография – судьба в «клубке сплетенных судеб» («kłębowisko splątanych losów») (5–6). Читателю же предоставлена возможность выбора стратегии чтения: по порядку, в свободном режиме, выборочно, тематически.
Форма словаря – единственная возможность упорядочить и одновременно сохранить ощущение множественности и бесконечности жизни, ее целостности и физической реальности отдельных дискретных фрагментов. Словарь – семантически насыщенный текст. Это форма, к которой, как считает Милош, он смог приблизиться только в старости: «Takiego traktatu młody człowiek nie napisze» [Miłosz 2002: 63]. Пожилой возраст позволяет человеку быть открытым миру: слушать и слышать мир, не концентрируясь, как в молодости, на самом себе.
Выбирая для текста о мире форму словаря, автор неизбежно «отходит в сторону». Он дистанцируется от конкретных фрагментов жизни, поскольку не выделяет их значимость. Атрибуты такой формы – редуцированность и стилистическая «дистилляция». Милош отмечает: это не отрицательные характеристики, как может показаться на первый взгляд, ведь они сдерживают нашу субъективность. В этом смысле классицизм есть потерянный рай, поскольку он выдвигал вперед значимость формы. Упорядоченность – это приближение к мимесису [Miłosz 1983: 65].
Словарная форма – еще один способ подчеркнуть значимое для Милоша положение: человек живет, прежде всего, в пространстве языка, культуры, памяти, а не в том, что мы привыкли именовать физической реальностью. Мир существует лишь постольку, поскольку отображается и создается в тексте. Но следует помнить, что все мы зависим от языка, которым, как нам только кажется, владеем, что крайне трудно обнаружить зафиксированную точку – себя самого, пребывающего вне стилистических влияний, «утвержденных» культурой форм и традиций, заимствованных направлений мысли (56).
«Азбука» Милоша – это иконический знак мира, культуры. В пространстве этого текста автор и читатель связаны общей целью: догнать ускользающий и постоянно обновляющийся смысл вещей.
Miłosz Cz. Traktat teologiczny // Miłosz Cz. Druga przestrzeń. Kraków: Znak, 2002. S.63 – 91.
Miłosz Cz. Piesek przydrożny. Kraków: Znak, 1998. 320 s.
Miłosz Cz. Szukanie ojczyzny. Kraków: Znak, 1992. 217 s.
Miłosz Cz. Rok myśliwego. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1991. 333 s.
Miłosz Cz. The Witness of Poetry: The Charles Eliot Norton lectures 1981–1982. Harvard University Press, 1983. 122 p.
Professor of General Linguistics Department
Perm State Humanitarian-Pedagogical University
Список литературы Мир в алфавитном порядке: об «Азбуке» Чеслава Милоша
- Абашева М.П. Сорокин нулевых: в пространстве мифов о национальной идентичности//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. Вып.1(17). С.202-209.
- Борхес Х.Л. Вавилонская библиотека/пер. В.Кулагиной-Ярцевой//Борхес Х.Л. Стихотворения, новеллы, эссе. М.: НФ Пушкинская биб-ка, 2003. С.142-151.
- Мамардашвили М. Одиночество -моя профессия: Интервью в записи У.Тиронса//Конгениальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили. М.: Прогресс, 1999. С. 59-80.
- Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М.: Языки рус. культуры, 1997. 224 с.
- Милош Ч. Родная Европа/пер. с польс. К.Старосельской, Б.Дубина. М.: Летний сад, 2011. 288 с.
- Павич М. Хазарский словарь. Роман-лексикон в 100 000 слов. Женская версия/пер. с серб. Л.Савельевой. СПб.: Амфора, 2010. 447 с.
- Miłosz Cz. O podróżach w czasie. Kraków: Znak, 2010б. 475 s.
- Miłosz Cz. Conversations. Missisippi: University Press of Missisippi, 2006. 218 p.
- Miłosz Cz. Jasności promieniste i inne wiersze. Warszawa: Zeszyty literackie, 2005. Nr 5. 150 s.
- Miłosz Cz. Traktat teologiczny//Miłosz Cz. Druga przestrzeń. Kraków: Znak, 2002. S.63-91.
- Miłosz Cz. Piesek przydrożny. Kraków: Znak, 1998. 320 s.
- Miłosz Cz. Szukanie ojczyzny. Kraków: Znak, 1992. 217 s.
- Miłosz Cz. Rok myśliwego. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1991. 333 s.
- Miłosz Cz. The Witness of Poetry: The Charles Eliot Norton lectures 1981-1982. Harvard University Press, 1983. 122 p.
- Miłosz Cz. Ogród nauk. Paryż: Instytut Literacki, 1979. 255 s.
- Słonimski A. Alfabet wspomnień. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. 281 s.
- Venclova T. Przedmowa//Grudzińska-Gross I. Miłosz i Brodzki: pole magnetyczne. Kraków: Znak, 2007. S.9-13.
- Zaworska H. Ludzie przydrożni: Recenzja. URL: http://www.milosz.pl/napisali-o-mojej-tworczosci/recenzje/helena-zaworska-abecadlo-milosza-recenzja (дата обращения: 25.03.2012).
- Miłosz Cz. Abecadło. Kraków: Wyd. Literackie, 2010а. 385 s.