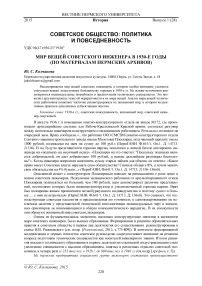Мир вещей советского инженера в 1930-е годы (по материалам пермских архивов)
Автор: Колчанова Ю.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советское общество: политика и повседневность
Статья в выпуске: 1 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается мир вещей советских инженеров, в котором особое внимание уделяется статусным вещам, недоступным большинству горожан в 1930-е гг. На основе источников анализируются индивидуальные потребности и предпочтения технических специалистов. Это позволяет аргументировать тезис об иерархичности в их мире вещей. Анализ мира вещей технических работников позволяет частично реконструировать их жизненный мир, в котором коллективные практики дополнялись субъективным опытом.
1930-е гг, советская повседневность, жизненный мир, советский инженер, мир вещей
Короткий адрес: https://sciup.org/147203608
IDR: 147203608 | УДК: 94(47):930.25"1930"
Текст научной статьи Мир вещей советского инженера в 1930-е годы (по материалам пермских архивов)
В августе 1936 г. в помещении опытно-конструкторского отдела на заводе №172, где производили артиллерийские системы для Рабоче-Крестьянской Красной армии, состоялся разговор между немолодым инженером-конструктором и медицинским работником. Речь шла о подписке на очередной заем. Врачу сообщили, «...что работник ОКО СМСЗМ (опытно-конструкторского отдела Союзного машиностроительного завода имени Молотова) Плоскирев, получающий зарплату около 1000 рублей, подписался на заем на сумму до 100 руб.» (ПермГАНИ. Ф.641/1. Оп.1. Д. 14713. Л.136). И он, будучи представителем горкома партии, попытался в личной беседе агитировать инженера на «подписку на месячный оклад». «Плоскирев на это ответил: "Поскольку подписка является добровольной, он дает добровольно 100 рублей, и всякие дальнейшие разговоры бесполезны"». Когда инженера попросили напомнить сумму старых займов для обмена, он ответил: «Какое право имеет Советская власть нарушать свои обязательства? Сначала обещать 8%, а потом менять свои обязательства на 4% бумаги...» (ПермГАНИ. Ф.641/1. Оп.1. Д. 14713. Л.136–136об).
Описанный сюжет с конструктором Плоскиревым наводит на размышления о роли денег в жизни советских инженеров. Недоумение медицинского работника от аргументированного отказа Плоскирева подписаться на больший, чем 100 рублей, заем демонстрирует различие представлений, носителями которых были инженер-конструктор и уполномоченный горкома партии. Врач был шокирован явным проявлением мелкобуржуазного индивидуализма и поэтому «ушел и больше … с ним не встречался» (ПермГАНИ. Ф.641/1. Оп.1. Д. 14713. Д. 136об). Это означает, что господствующая советская идеология и предполагаемая ею готовность к самопожертвованию не исключала наличия у представителей технической интеллигенции индивидуальных черт и жизненных ориентиров, не вписывающихся в общую коммунистическую парадигму. В их совокупности они образуют жизненный мир советских инженеров.
Одним из фундаментальных элементов, имеющих конструирующее значение в жизненном мире советских инженеров, было высшее образование. Формирование и развитие образовательных практик в советском обществе в первые два десятилетия его существования реконструированы в статье В.В. Рыжковского (см. подр. [ Рыжковский , 2012, с.775-809]). В контексте форсированной модернизации и первых пятилеток советское руководство сосредоточивает внимание на решении вопроса подготовки технических специалистов как носителей инженерного знания. Итогом развития высшего технического образования в первом десятилетии сталинской индустриализации стало увеличение специалистов с высшим образованием, занятых в различных отраслях советской экономики, в четыре раза (с 233 тыс.чел. в 1928 г. до 909 тыс.чел. в 1940 г.) ( см.подр. [ Арефьев , с. 5]) .
На пермских предприятиях социальную группу инженеров составляли преимущественно
мужчины. Советский инженерный корпус в годы второй пятилетки состоял из двух неравных частей. Меньшинство принадлежало к выпускникам императорских университетов, технологических институтов и зарубежных политехникумов. Большинство же закончило советские втузы: Московское высшее техническое училище, Харьковский технологический институт, Академию им. Жуковского и др. Преимущественно это были молодые люди – партийцы или комсомольцы, некоторые с опытом участия в Гражданской войне. Большая часть их были выходцами из мещанской или рабочей среды. (см. подр. [Шаттенберг, 2011, с. 10 – 15]). В эпоху сталинской индустриализации инженер как носитель технической культуры приобретает высокий социальный статус. После процесса Промпартии и гонений на «буржуазных» технических специалистов в 1928 – 1933 гг. (в 1932 г. секретарь Свердловского обкома ВКП (б) писал Сталину, что на уральских заводах не осталось специалистов. – см.: [Бакулин, Лейбович, 1990, с.98 – 110]) статус инженеров был восстановлен. Их награждали орденами, приглашали на совещания к вождям, предоставляли привилегии.
Для описания этой относительно новой социальной группы целесообразно исследовать жизненный мир людей, в нее входящих. Следуя логике анализа феноменологической школы А. Щютца, П. Бергмана и Т. Лукмана, «жизненный мир» можно определить как упорядоченную структуру, состоящую из объектов, конституированных до появления субъекта. Их осознание индивидом можно сравнить с прочтением «рецептов» из «поваренной книги». Формирование жизненного мира человека происходит во взаимодействии и сосуществовании с другими людьми (субъектами). Индивидуальные переживания отдельного человека – Я, дающие субъективные знания об обыденности, «корректируются переживанием мира в опыте c другими, теми, с кем Я связан общим знанием, общей работой и общим страданием» [Щютц , 2003, с. 102]. Получается, что коллективные практики отдельного Я являются определяющим опытом для выстраивания субъективного жизненного мира.
В рассматриваемом случае субъектом выступает инженер-конструктор, имеющий высокий месячный доход и не желающий делиться с государством своими заработанными деньгами.
Возвращаясь к разговору между инженером и врачом, следует «прислушаться» к мнению конструктора Плоскирева, отличному от бытовавших представлений о государственных займах. В его суждении четко проявилось его собственное Я, не обремененное коллективными установками, которые табуировали тему денег в советском социуме. Можно было писать в газетах о высоких заработках инженеров-стахановцев, что не исключало, а, напротив, усиливало негласный запрет на индивидуальные высказывания на тему низких зарплат и денежных изъятий. Такой вербальный поступок квалифицировался как рвачество и проявление мелкобуржуазности [ Вихавайнен, 2004, с. 294, с. 320–321].
Попытаемся определить смысл поступка Плоскирева. Является ли он проявлением субъектности или манифестацией социальных установок городского мещанства? Плоскирев был выходцем из купеческой среды. В терминах Й. Халльбека советская субъектность конструировалась на основе большевистской идеологии. С этой точки зрения инженер Плоскирев субъектности был лишен или не проявил ее в конкретной ситуации. Представляется, что такой подход является односторонним. Люди выстраивали свое Я как в соответствии с силовыми линиями советской идеологии, так и вопреки им.
Это и есть субъективность или субъектность («самосознание субъекта»), определение которой предложили Й. Халльбек и И. Халфин. По мнению Й. Халльбека, «субъективность» – это «определенный тип "Я", стремящийся к пониманию себя как субъекта своей собственной жизни (в противоположность восприятию себя как, скажем, объекта высшей воли). Таким образом, субъектность предполагает определенную степень сознательного участия индивидуумов в сотворении собственных жизней» [Интервью с И. Халфиным и Й. Хелльбеком, 2002, № 3. с. 219].
Тогда получается, что социальное действие инженера-конструктора, как одного из участников большевистского проекта, нельзя понимать как пассивное и нерефлексивное подчинение навязываемым сверху коллективным догмам и практикам. Наоборот, оно заключалось в активном поиске собственной стратегии выживания и концептуализации собственного жизненного мира с помощью «освоения» коммунистической идеологии(cм. подробнее [ Хелльбек, 2010, № 4(7)] ).
Концепт повседневности довольно часто применяется в современной историографии для реконструкции социальной истории сталинизма. Результаты исследований, посвященных повсе- дневным моделям поведения в советском обществе, значительно обогащают наши представления о нем.
В монографии Л. Сигельбаума «Машины для товарищей. Биография советского автомобиля» проанализировано присутствие в советском социуме такого атрибута модернового общества, как автомобиль. Наличие его можно рассматривать как один из критериев индивидуализации личного жизненного опыта и как условие создания приватного пространства (в данном случае в салоне автомобиля во время поездки за город). В 1930-е гг. автомобиль, особенно американской фирмы Ford (импортной или отечественной сборки) продолжал оставаться статусным предметом, связанным «с эскапистскими фантазиями и мечтами», и вызывал «в воображении мир невероятной роскоши и комфорта» [Сигельбаум, 2011, с.340]. Среди советских инженеров были владельцы автомобилей, наличие которых подчеркивало высокий социальный статус их владельцев.
О других повседневных практиках советских людей, например, связанных с потреблением предметов гардероба, можно найти в работах Ю. Гронова. В статье «Власть моды и Советская власть: история противостояния» раскрывается тезис о возвращении в 1930-е гг. «традиционной моды», носителями которой были в первую очередь представители партийно-государственной номенклатуры. Именно им была доступна «модная одежда», купленная за границей или сшитая на заказ в салоне-ателье, определяемая властью как «признак социалистической культурности» или «норма жизни» (см. подробнее: [Гронов, Журавлев]). Гардероб же простого городского обывателя формировался, чаще всего не под влиянием модных тенденций, а по причине изношенности какой-либо вещи.
Тема вещей в жизненном мире советских инженеров, тем не менее, остается неизученной, что делает наши знания об их социальных практиках, ценностных ориентирах и умственных горизонтах неполными. Обратимся к исследованию С. Шаттенберг, где показывается реальное повышение качества жизни технических служащих в середине 1930-х гг., когда Сталин провозгласил «Жить стало лучше, жить стало веселее!» Описывая мир вещей инженера из Ростова-на-Дону Валентины Богдан (Ивановой), автор обращает внимание на такие детали, как дорогие шторы, шуба и шоколад: «…в их просторной двухкомнатной квартире имелись прихожая, маленькая кухня и современные удобства – водопровод и душ…Богданы сумели накопить денег на обстановку и теперь купили три кровати, шкаф, новую посуду…и шторы из дорогого материала. Денег хватало и на ня-ню…У Богдан деньги были, и она покупала то ящик испанских апельсинов, то килограмм шоколада за 700 рублей. Ее основной оклад составлял 500 руб., но за отдельные проектные работы платили особую премию, так что часто выходило и до 900 руб. …Она много тратила на одежду…Она купила шубу – шубы стоили дорого, поэтому их не расхватывали сразу и за ними не стояли очереди. Но, поскольку муж сказал, что в этой обновке она выглядит "беременной", Богдан ее кому-то подарила, приобрела у "спекулянта" английский материал, раздобыла к нему подходящий меховой воротник и сшила себе пальто у портнихи. Один материал обошелся ей в 1200 руб. … И другие вещи, из тонких тканей, батиста, с ручной вышивкой, она покупала у спекулянтов. Всегда одетая безупречно и со вкусом, она выделялась на фоне людей, носивших советские фабричные изделия…» [Шаттен-берг, 2011, с. 345]. Экзотические фрукты, дорогой шоколад и одежда, сшитая на заказ из импортных тканей, т.е. вещи, недоступные большинству горожан, подчеркивали кастовость сталинских инженеров и мотивировали их компромисс с государством.
О советском инженере, например, выходце из семьи рабочего, который был нацелен на продвижение по карьерной лестнице, написала Ш. Фицпатрик в монографии «Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е гг.: город». Продвижение по административной лестнице позволяло получить определенные привилегии, т.е. построить свой жизненный мир, в котором будет отдельная квартира, казенная дача, автомобиль, путевка на курорт, шоколадные конфеты. Таким образом, советская повседневность демонстрирует «обуржуазивание сталинского режима» [Фицпатрик, 2008, с. 131] . Отмеченная Фицпатрик тенденция не являлась доминирующей, так как ей противостояла новая идеология, отвергавшая мещанство и «искаженное восприятие» привилегий [Фицпатрик, 2008, с. 127–128 ].
Распространение мещанских ценностей и идеалов в повседневном городском пространстве, на основе которых конструировался жизненный мир и советских художников в поздний сталинский период, рассматривается в монографии Г. Янковской «Искусство, деньги и политика: художник в годы позднего сталинизма» (см.подр. [ Янковская , 2007]).
У инженера одним из способов конструирования социальной дистанции, необходимой для реализации управленческих функций , была презентация собственного статуса через вещи. Не все носители инженерного знания руководили рабочим коллективом. Нельзя забывать и про конструкторов, не занимавшихся управленческой деятельностью. Их общим повседневным пространством, в рамках которого происходила самопрезентация, был кабинет опытно-конструкторского отдела.
Постараемся посмотреть на советского инженера через призму его жизненного мира, частью которого были деньги и вещи. Источниковую базу исследования составляют материалы архивноследственных дел второй половины 1930-х гг., находящиеся в Пермском государственном архиве Новейшей истории (ПермГАНИ). Многие инженеры, работающие на пермских оборонных заводах (завод № 19 имени Сталина и завод № 172 имени Молотова), были репрессированы в период с 1936 по 1939 г. по статье 58 УК РСФСР 1926 г. и приговорены либо к исправительно-трудовым работам, либо к высшей мере наказания. Специфика этих источников заключается в том, что тема вещей в них имеет маргинальный характер. Следователей она не интересовала. Они решали другие задачи. Значит, эта тема в архивно-следственных документах не была сфабрикована.
Мир вещей можно реконструировать на основе описей имущества, которые составлялись следственными органами в момент ареста, обратив пристальное внимание на мелочи повседневного существования, о которых обвиняемые инженеры иногда рассказывали во время допросов.
Репрессиям были подвергнуты в основном инженеры с высоким социальным статусом. Наличие у них автомобиля и других вещей, которые можно было обнаружить в квартирах и домах немногих советских горожан в 1930-е гг., свидетельствует о высоком социальном положении владельцев этих вещей. Среди прочих автомобилей, разъезжавших по пермским дорогам, привлекал внимание бордовый восьмицилиндровый «Форд–18» («Виктория»), принадлежавший начальнику нескольких цехов завода № 19, инженеру-механику Л. С. Татко (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14339. Конверт. Л. 6). Трудно сказать, была ли это премия наркома тяжелой промышленности или инженер купил его на свои деньги. Но можно утверждать, что Татко получил этот автомобиль по доверенности, выписанной Всесоюзным объединением «Торгсин» в 1932 г. Значит, «Виктория» Татко имела заграничную сборку в отличие от более распространенных «Фордов» модели «А», выпускаемых на Горьковском заводе.
Попробуем поделить мир вещей советских инженеров на деньги и статусные предметы. Деньги, автомобиль, радиотехника, костюм-тройка, золотые часы – все это мы находим среди вещей некоторых сталинских инженеров.
Тема денег незначительно отражена в источниках, так как было не принято говорить о них в советском социуме. Демонстрация работником своей нацеленности на высокую зарплату считалась неприличной. Тем не менее случай с Плоскиревым не является единственным. Весной 1934 г. на заводе № 19 возник конфликт между начальником технологического отдела Ш. И. Брискиным и инженером Шендеровичем, который «проявил себя за время работы как склочник, создающий в Отделе нездоровую обстановку». Он, «будучи назначен на срок испытания руководителем группы технологов по алюминиевым деталям, не проявил достаточной квалификации и инициативы для выполнения возложенной на него задачи» (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 7928. Т. 3. Л. 283). О причине конфликта мы узнаем из заявления Брискина, в котором он обратился к директору завода с просьбой об увольнении инженера. В документе читаем: «По работе старшего технолога инженер Шендерович получил при утверждении оклада в 500 рублей вместо 550, установленных для него при испытании по руководству группой. Несмотря на то, что этот оклад в данном случае был для него максимально возможным, инженер Шендерович очень болезненно воспринял это изменение оплаты, и не раз обращался ко мне с настойчивыми просьбами восстановить прежней оклад на том основании, что он якобы на голову выше других технологов в Отделе…» (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 7928. Т. 3. Л. 285).
Этот сюжет еще раз показывает значимость денег в жизненном мире технических специалистов. Получается, что деньги – это то, за что приходилось бороться, не скрывая своих меркантильных интересов. Для того чтобы зарабатывать, инженеры переходили с одного предприятия на другое, участвуя в так называемом «переманивании». Увеличение заработной платы, например на 25 %, очень часто являлось для них веской причиной поменять место работы [Власть и интеллигенция…, 1999. с. 183] . Существовал «готовый рецепт», как заработать больше, применяемый работниками завода № 19: «…против никогда не выступай, не критикуй, не вскрывай недостатки, а говори сколько угодно, хвали начальство, хвали порядки (будь подхалимом) – и тогда будет все прекрасно, получишь быстрый "рост" в продвижении на руководящие посты, повысят оклад и огребать будешь кучу премиальных» (ПермГАНИ. Ф. 231. Оп.1. Д. 35. Л. 24). Следование этому «рецепту» могло обеспечить успех. Так, вчерашний студент Московского авиационного института, откомандированный на завод № 19 в 1937 г., показал пример того, как надо зарабатывать деньги. Цитируем документ: «Анатолий Ив . Сабуров, комсомолец, кандидат партии. Хорошо грамотный технически, очень инициативный парень, в институте был активистом, ярым противником всех недостатков, а здесь замолчал. Почему спрашивается? Получил хороший оклад – 725 руб., хорошо премируют, посулили командировку за границу – и только. Попробуй он выступи, покритикуй – и все это разлетится как мыльный пузырь» (ПермГАНИ. Ф. 231. Оп.1. Д. 35. Л.27).
«Рассмотренные под микроскопом» минимальный сторублевый заем Плоскирева, 50 рублей Шендеровича, 25 процентное повышение зарплаты – это те «мелочи», которые имели важное значение для жизненного мира советских инженеров.
Не только высокий оклад определял статус технических специалистов. Автомобиль, который для инженера был роскошью, а не средством передвижения, символизировал признание и привилегированность. Это была статусная вещь, которой премировали отличившихся инженеров. Иногда технические специалисты покупали автомобили на свои честно заработанные деньги. У инженера М.С. Владимирова была легендарная «эмка» с цельнометаллическим кузовом, разработанная на базе четырехцилиндрового американского «Форда» и собираемая на советском конвейере с 1936 г. (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14520. Наблюдательное дело. Л. 11). Стоимость автомобиля представительского класса в конце 1930-х гг. составляла примерно 10 тыс. руб. (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14520. Аривно-следственное дело М. С. Владимирова. Л. 32). Большинство автолюбителей владели более дешевым и доступным автомобилем советской сборки – «Фордом А». На конвейер производство этих моделей было поставлено с 1932 г. на Горьковском автозаводе по договоренности с американской фирмой. Можно предположить, что автомобили инженеров чаще стояли в гараже, чем были в пути. Отсутствие дорог, заправочных станций и автомастерских не способствовало частым и дальним путешествиям на машине. В мире вещей сталинских инженеров автомобиль, наверное, был самым дорогим и недоступным большинству горожан символом избранности. Традиция фотографироваться рядом с автомобилем еще больше подчеркивает его ценность среди других статусных вещей технических работников.
Инженеры любили не только фотографироваться, но и фотографировать. Поэтому у многих из них были фотоаппараты. Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела завода № 19 М.С. Владимиров предпочитал делать снимки немецкой камерой «Zeiss» со сменяемым объективом (Перм-ГАНИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 14520. Л.7). Модели этого фотоаппарата начнут производить в послевоенном СССР под названием «Киев-2» и «Киев-3».
Из заграничных командировок инженеры привозили в своих тяжелых чемоданах радиолы и грампластинки для патефонов, а иногда и патефоны. У инженера Брискина, побывавшего в Америке в 1934 г., была американская радиола «Lafaette». Учитывая ее громоздкость, можно представить, как было непросто везти эту вещь из-за границы (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Л. 13).
Профессиональный навык инженеров делать заметки объясняет наличие у них записных книжек. Начальник механического цеха завода № 19 С.П. Мартыненко во время служебной командировки в Германию приобрел или получил в подарок небольшой ежедневник на 1931 г. в красной кожаной обложке. Эта записная книжка примечательна тем, что на ее первых страницах была пред- ставлена информация о структуре завода с подробным расположением цехов, на котором Мартыненко проходил стажировку (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Конверт 1. Л. 55–85).
Во время поездок за границу у инженеров появлялась возможность приобретать не только технику, но и одежду, которую с таким трудом приходилось «доставать» в советских магазинах. Об этом читаем в беседе инженера И.И. Молчанова с диспетчером завода № 19 А.С. Басиным: « он стал высказывать свои недовольства, что очень трудно жить, купить мануфактуры, платья и обуви, нет никакой возможности, кругом очереди, да и то мало выбрасывается на рынок, одним словом, мысль сводилась к тому, то легкая промышленность слабо развивается, что между тяжелой промышленностью и легкой существует разрыв. Много жаловался на качество выпускаемых на рынок товаров, купишь ботики проносишь два-три месяца и они развалились» (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Л. 14). По сравнению с пустыми советскими магазинами берлинский универмаг «Wertheim» был потребительским «раем». Он привлек внимание не очень хорошо одетого советского инженера А.Г. Баранова, который вместе с тремя другими инженерами прожил в Берлине около недели в июле 1933 г., пока не получил американскую визу для поездки в служебную командировку на завод Wright в Патерсоне (штат Нью-Джерси). Именно в этом универмаге Баранов «купил себе костюм, который переделали в мастерской в этом же магазине» (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 14399. Л.32об). Костюм, сшитый на заказ или купленный в магазине, был базовой вещью в гардеробе инженера.
Чтобы составить представление о мире вещей инженера, посмотрим на опись имущества, принадлежащего М.С. Владимирову (сохранены правописание и стиль документа): «…радиола ФК Виктор Компании модуль № 341 (приемник заграничный) – 1, грампластинки заграничные – 90, грампластинки отечественные – 26, произведения Пушкина – 6 т., произведения Лермонтова – 5, произведения Гоголя – 5, Анатоль Франс – 5, художественная литература на английском языке – 14 книг, автомобильные часы № 54251 – 1шт., секундомер заграничный – 1 шт., стол письменный дубовый – 1 шт., диван дубовый – 1 шт., пальто драповое демисезонное – 1 шт., костюм темносиний из бастона – 1 пара, костюм серый под поношенный – 1 тройка, удостоверение о премировании легковой машиной, сберегательная книжка Владимирова М.С. с остатком вклада на сумму две тысячи (2000) рублей, фотоаппарат фирмы «Цейс», бачек для проявления к фотоаппарату, лейка (фо-тоап) в футляре кожаном –1, ванна д/пленки – 1, запасные линзы – 2, приспособление д/автосъемки – 1, запасные кассеты д/пленки – 4, фото-пленка в банке – 1» (ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 14520. Л.7-10).
Таим образом, помимо готовальни, маркирующей профессиональный статус ее владельцев, у советских инженеров были заграничные фотоаппараты, радиолы, а также автомобили. Они составляли мир вещей советских инженеров как носителей модерновой культуры. К традиционным символам достатка можно отнести золотые часы, шерстяной костюм-тройку.
Изучение мира вещей советского инженера позволяет частично восстановить жизненный мир и повседневные структуры, в которые он был включен. В этом мире есть значимые вещи, которыми дорожили, с учетом того, с каким трудом они «доставались». На вершине иерархии вещей находился автомобиль. Его, подчеркивающего статус, могли себе позволить лишь немногие. Радиолы и фотоаппараты, купленные за границей, не были случайными вещами в домах носителей инженерно-технического знания. Костюм из берлинского магазина создавал образ человека, умеющего хорошо одеваться, но не имеющего возможности это делать. В 1930-х гг. у инженеров был ограниченный выбор жизненных стратегий. Фактически он сводился к приобретению вещей, позволяющих им проявить свою индивидуальность. Через все эти вещи можно «рассмотреть» индивидуальные черты субъекта, проявление «Я», выраженное в осознании собственной значимости и интеллектуальной свободы.
Список литературы Мир вещей советского инженера в 1930-е годы (по материалам пермских архивов)
- Доверенность. 14 ноября 1932//ПермГАНИ. Ф. 641/1. On. 1. Д. 14339. Конверт
- Заключение зам. начальника Учетно-архивного отдела УКГБ при Совете Министров СССР по Молотовской области. 13 марта 1957//ПермГАНИ. Ф. 641/1. On. 1. Д. 14520
- Переписка. Записная книжка С. П. Мартыненко//ПермГАНИ. Ф. 641/1. On. 1. Д. 7928. Конверт
- Заявление директору завода № 19 от начальника Технологического отдела 3-го цеха Ш. Брискина. 11.05.1934 г.//ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 7928. Т. 3. Л. 283-287
- Куров, Ермаков -Промышленный отдел ЦК ВКП (б). 11 феврвля 1938//ПермГАНИ. Ф. 231. Оп.1. Д. 35. Л
- Опись имущества, принадлежащего Ш. И. Брискину//ПермГАНИ. Ф. 641/1. On. 1. Д. 7928
- Опись имущества, принадлежащего М С. Владимирову//ПермГАНИ. Ф. 641/1. On. 1. Д. 14520. Л. 7-10
- Постановление о конфискации имущества. 7 июля 1940//ПермГАНИ. Ф. 641/1. On. 1. Д. 14520. Наблюдательное дело
- Протокол допроса обвиняемого Баранова А. Г. 11.09.1936 г.//ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 14399
- Протокол допроса обвиняемого И. И. Молчанова. 20.11. 1940 г.//ПермГАНИ. Ф. 641/1. On. 1. Д. 7928
- Протокол допроса свидетеля Г. М. Гурвича. 02.12.1936 г.//ПермГАНИ. Ф.641/1. Оп.1. Д. 14713. Л. 135-136
- Арефьев А. Л., Арефьев М. А. Об инженерно-техническом образовании в России. URL://http://www.socioprognoz.ru/files/File/publ/InkzenemoJ;echnich^ (дата обращения: 13.02.2015)
- Бакулин В.И., Лейбович ОЛ. Рабочие, спецы, партийцы: о социальных истоках «Великого перелома»//Рабочий класс и современный мир. 1990. № 6. С.98 -110
- Вихвайнен Т. Внутренний враг. Борьба с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб., 2004. 416 с
- Власть и интеллигенция в сибирской провинции. У истоков советской модернизации. 1929-1932: сб. док./сост. С.А. Красильников, Т.Н. Осташко, Л.С. Пащенко, Л.И. Пыстина. Новосибирск, 1999. 360 с
- Гронов Ю., Журавлев С. Власть моды и Советская власть: история противостояния. URL: http://www.polit.ru/article/2006/12/21/fashion/(дата обращения: 13.02.2015)
- Интервью с Игалом Халфиным и Иоханом Хелльбеком (перевод Л. Могильнер)//Ab Imperio. 2002. №3. С. 217-261
- Рыжковский В.В. Высшее специальное образование в 1880 -1930-х гг. (медицина, сельское хозяйство, финансы и экономика)//Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи -СССР (конец 1880-х -1930-е гг.). М., 2012. С. 775-809
- Сигельбаум Л. Машины для товарищей: Биография советского автомобиля/пер. с англ. М.И. Лейко. М., 2011. 430 с
- Хелльбек И. Повседневная идеология: жизнь при сталинизме//Неприкосновенный запас. 2010. № 4(72). URL: http://magazines.mss.m/nz/2010/4/he2.html (дата обращения: 13.02.2015)
- Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е гг.: город/пер с англ. Л.Ю. Пантина. М., 2008. 336 с
- Шаттенберг С. Инженеры Сталина: жизнь между техникой и террором в 1930-е гг./пер с нем. В.А. Брун-Цехового, Л.Ю. Пантиной. М., 2011. 478 с
- Щютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии/пер. с англ. А. Я. Алхасова. М., 2003. 336 с
- Янковская Г. А. Искусство, деньги и политика: художник в годы позднего сталинизма. Пермь, 2007. 312 с