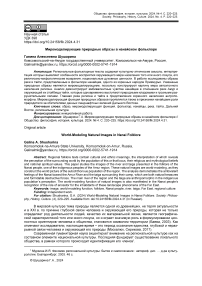Миромоделирующие природные образы в нанайском фольклоре
Автор: Шушарина Г.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Региональные фольклорные тексты содержат культурно-этнические смыслы, интерпретация которых выявляет особенности восприятия окружающего мира населения того или иного локуса, его религиозно-мифологические воззрения, национальные духовные ценности. В работе исследованы образы реки и тайги, представленные в фольклоре нанайцев, одного из коренных народов Приамурья. Указанные природные образы являются миромоделирующими, поскольку конструируют картину мира автохтонного населения региона. Анализ демонстрирует амбивалентные чувства нанайцев в отношении реки Амур и окружающей их стойбища тайги, которые одновременно выступают природными кладовыми и грозными разрушительными силами. Главная река региона и тайга в представлении коренного населения антропоморфны. Миромоделирующая функция природных образов проявляется также в признании нанайцами роли прародителя за обитателями данных ландшафтных явлений Дальнего Востока.
Образ, миромоделирующая функция, фольклор, нанайцы, река, тайга, дальний восток, региональная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/149145372
IDR: 149145372 | УДК: 398 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.31
Текст научной статьи Миромоделирующие природные образы в нанайском фольклоре
,
,
В мировой культуре тема природы является одной из древнейших, не теряя актуальности и в XXI в. по причине глубокой связи человека и окружающей его природы, которая не только определяет род деятельности людей, качество их материальной жизни, является географической характеристикой того или иного локуса, но и играет значимую роль в формулировании ценностных ориентиров человека и общества, становится символом территории (Баева, 2003). Как отмечают исследователи, настоящее время – это период осознания единства, глубокой и неразрывной связи человека и окружающей его природы (Москалюк, Серикова, 2017).
Современная гуманитарная наука акцентирует внимание на региональной культуре как на составном элементе национальной культуры. Последняя фундирует существование локального общества, в рамках которого происходит идентификация его членов1.
Дальний Восток в российском «культурном самосознании» (Мельникова, 2022) воспринимается в нескольких плоскостях. С одной стороны, эта территория оценивается как «своя», поскольку является частью Российской Федерации. С другой стороны, данный регион воспринимается как «чужая/иная/другая» территория. Это связано с его территориальной удаленностью, первозданной природой, необжитостью, малонаселенностью, объективными природными, национальными и другими отличиями от большей части страны, которые составили основания для мифологизации региона.
В данной работе исследуются образы реки и тайги, представленные в фольклоре нанайцев, одного из коренных народов Приамурья, выполняющие миромоделирующую функцию.
Жанровый состав нанайского фольклора разнообразен, среди основных его жанров принято выделять сказки (нингман) и предания (тэлунгу) (Киле, 2020), поскольку эти виды прозаического жанра фольклорного дискурса у нанайского этноса считаются подлинными сказаниями (Фетисова, 2016). Нанайские нингман, сочетая исторические факты и художественный вымысел, рассказывают о быте коренного населения региона, его религиозных представлениях, верованиях и жизненных ориентирах. Тэлунгу повествуют о событиях, реально происходивших в жизни нанайцев. Они передавались из поколения в поколения через старших членов нанайских семей (Ме-летинский, 2004: 86).
Для анализа использовались сказки и легенды, собранные и опубликованные известными писателями и исследователями нанайского народного творчества1, а также фольклорные тексты, размещенные в свободном доступе в сети Интернет2. Ученые не раз подчеркивали, что фольклорная концептосфера представляет собой систему традиционных культурно-этнических смыслов, интерпретация которых позволит выявить социальный опыт, специфику восприятия окружающего мира предшествующими поколениями проживающего на данной территории народа, ментальные установки, национальные духовные ценности носителя этой культуры (Черноусова, 2015). Изучением фольклора аборигенных этносов Дальневосточного региона занимались Л.И. Шренк, Ю.А. Сем, И.А. Лопатин, И.И. Козьминский, а также советские фольклористы Н.Б. Киле, Е.А. Гаер, А.Я. Чадаева, В.А. Аврорин. Несмотря на существующие работы, интерпретация природных образов Приамурья с точки зрения их миромоделирующего потенциала не становилась предметом специального исследования. Однако изучение сказок и легенд ведет к пониманию не просто культуры народа или нации, но и психологии народа, раскрытию его национального характера, образуемого ценностями и примерами достойного поведения. Принадлежность нанайского народа территории заданного региона своеобразно отражена и в самом этнониме « нанайцы ». Аборигены именовали себя « нани », т. е. жители именно этой земли, закрепляя с помощью этнонима свое право на территорию Приамурья.
Определяя понятие «образ», согласимся с точкой зрения Г.В.Ф. Гегеля: «Образ – это акт и результат творческого преображения действительности, когда чувственное… возводится созерцанием в чистую видимость» (1968: 385). Данная дефиниция позволяет заключить, что образ отражает конкретную действительность. Ученые выделяют несколько функций, которые реализует образ, а именно информационную, конструирующую, политико-идеологическую, проек-тивно-моделирующую, коммуникативно-символическую и эстетическую (Ильчукова, 2015). Для настоящего исследования значимой является конструирующая/миросозидающая/миромодели-рующая функция, означающая, что «образы конструируют восприятие реальности, личность человека, самоидентичность» (Ильчукова, 2015: 115). Данная функция конкретизируется как формирование новых смыслов на основе коллективной памяти, т. е. ценностных систем, норм, ценностных установок и образцов поведения, принимаемых и разделяемых жителями того или иного локуса, а также как фиксация взаимосвязи между тем, что человек познает в окружающем его мире, обозначает и номинирует (Кубрякова, 2009: 10).
Региональный локус в анализируемых нами фольклорных произведениях представлен пространством, окруженным тайгой, сквозь которое протекает река Амур.
В нанайском фольклоре среди многочисленных природных образов можно указать на образы реки и тайги как на миромоделирующие образы, т. е. образы, позволяющие конструировать картину мира коренного населения Приамурья.
Образ реки. Вода в народном творчестве является одной из основ мироздания, играя существенную роль в картине мира разных народов (Madhavi, Done, 2019). Неслучайно, что многие народы стремились основать свои поселения вдоль рек и других водоемов. В нанайском фольклоре важность воды актуализирована в многозначном образе реки Амур.
Амур протекает через несколько российских регионов, в том числе Читинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область и Хабаровский край, а также частично по границе с Китаем. Существует несколько точек зрения на происхождение данного названия. Так, на языке нивхов, народа, проживающего в нижнем течении, оно имеет значение «большая река», маньчжуры называют Амур «черной рекой», в переводе с китайского языка река носит название «река черного дракона»1.
Нанайцы испытывают амбивалентные чувства в отношении Амура. Великая река Дальнего Востока и многочисленные озера региона, упомянутые в нанайских сказках, богаты разнообразной рыбой, вторым после тайги источником пропитания коренного населения. Более того, из рыбы мастера коренного этноса российского Дальнего Востока шили одежду и обувь: « Рыбьими костями кормили собаку и кошку, из рыбьей кожи шили себе одежду и прочие вещи » («Волшебный кисет», нанайская народная сказка). Поэтому река у коренного населения подвергалась сакрализации, проявляющейся, например, в прикармливании. Нанайцы верили, что в этом случае они смогут получить хороший улов: « Вот поехали Амур кормить. Лучшие одежды надели из пестрых тюленей, собачьи дохи черные надели. Плывут, песни хорошие поют. На середину Амура выехали. Взял Плетун кашу, юколу – сушеную рыбу, сохачьего мяса взял. Все в Амур бросил » («Храбрый Азмун», нанайская народная сказка). Сказанное подтверждает устоявшуюся взаимосвязь архетипических образов воды/реки и жизни.
Амур в представлении нанайцев антропоморфен, наделяется характеристиками человеческого тела и души, свойственной всему живому антонимичностью, т. е., с одной стороны, река обладает разрушительной мощью, с другой – дает земную (обилие разнообразной рыбы) и духовную (возможность получать эстетическое удовольствие от созерцания красоты реки) пищу: « Над Амуром полетели – точно голубая лента, вьется река » («Мальчик Чокчо», нанайская народная сказка).
Приведенные примеры, на наш взгляд, отражают не только любование рекой, восхищение ее изобилием, но и в определенной степени семантику малой родины, указывая, что жизнь нанайского стойбища была организована вокруг реки. Она воплощает в себе все могущество приамурской природы, ее изменчивость, непредсказуемость и грозный нрав. Для иллюстрации приведем такой пример: « заплескался Амур, волны до неба поднялись, облака до земли спустились ». Страх перед непредсказуемым Амуром, который время от времени был причиной сезонных бедствий народа, определял отрицательные коннотации по отношению к великой дальневосточной реке. Подтверждение находим в нанайской сказке «Березовый сынок»: « Взял зангин слюну змеи и бросил в реку. Забурлила река, зашипела, белый пар пошел из воды. Множество рыбы кверху брюхом всплыло. Мертвая рыба стала ».
Суровые условия жизни в регионе определили характер нанайского народа, среди качеств которого можно отметить любовь и уважение к родной земле: « Родная земля силу человеку дает! Видно, правду Плетун сказал, что родная земля силу дает: пока до дома старика дошли, вырос Азмун » («Храбрый Азмун», нанайская народная сказка); « на Амуре жить хорошо ».
На основе анализа репрезентации образа реки в фольклоре мы можем реконструировать картину мира регионального коллектива, а именно такие ее элементы, как род занятий местного населения, детали быта, а также систему верований, в которой вода/река связана со стихией жизни и смерти.
Образ тайги . В своем творчестве нанайский народ отдает дань глубокого уважения расположенным на территории его проживания лесам и рекам, поскольку все богатство водных и лесных ресурсов региона помогало нанайцам выживать в суровых климатических условиях Дальнего Востока. Большое внимание в нанайских фольклорных текстах уделяется описанию тайги, которая простирается на огромные территории. Герои сказок и легенд испытывают очарование и трепет перед бесконечным лесом. Концепт « тайга – кладовая » (Васильев, 2020) актуализируется в фольклоре через богатство и разнообразие растительного и животного мира региона: « Затем со всех сторон прибежали зайцы, хорьки, белки, лисицы и разные звери » («Бедный и богатый старик», нанайская народная сказка). Как и в случае с рекой, подчеркивание изобилия тайги в фольклоре, на наш взгляд, указывает на осознание народом уникальности малой родины, восхищение ею.
Интерпретация образа тайги позволяет реконструировать род занятий нанайского народа и связанные с этим некоторые качества и способности населения. Искусность и одаренность нанайцев как охотников неоднократно упоминаются в сказках: «и он был такой охотник, что… всякая птица, перед тем как над ним пролететь, рыдала»; «след разных зверей узнавать, по голосам птиц узнавать, как солнце и звезды путь в тайге указать могут»; «Охотничий промысел любили… Стрелой белке на лету в глаз попадали»; «лиса говорит: не стреляйте в меня! Я вам двух детей своих дам!»; «тут сын Тунгу Альчика, храбрый, смелый юноша»; «вырос Мэрген, возмужал, сильным богатырем, метким стрелком стал». Необычайная сила, мужественность, удаль нанайских мужчин неоднократно выступали основой сюжетной линии, их сила измерялась способностью совладать с самыми крупными таежными животными – медведем и тигром: «Не было среди их сородичей таких охотников, как Канда с Егдой. Они медведей за добычу не считали, руками давили. На ходу тигра ловили. Барса за хвост ловили» («Соболиные души», нанайская народная сказка).
Сама тайга в описании нанайцев представляла собой густой лес, стоявший стеной на пути: « Ветви друг с другом переплетаются; Деревья высокие-высокие. Сосны, дубы шумят в том лесу, вершинами качают. Конца-краю тому лесу нет! » («Мальчик Чокчо», нанайская народная сказка). Тяжелые и опасные промыслы требовали объединения людей друг с другом, строгой внутренней дисциплины, большой наблюдательности и зоркости. Одномоментно с осознанием природного величия своего края, его неиссякаемых ресурсов для пищи и крова нанайцы оценивали суровость и беспощадность густой тайги, что выражено в народном творчестве в образе хозяина тайги – злодея, разоряющего поселения нанайцев. Необходимо отметить, что лес, или тайга, в сказочном фольклоре является традиционным образом у разных народов. Его концептуализируют как пространство, населенное темными, злыми, враждебными силами, которые герой сказки преодолевает на пути к свету: « Закатилось солнышко. Птица Кори из-за Хехцира поднялась, небо заслонила – совсем темно стало. Летит птица, крыльями шумит – будто сильный дождь идет. Свистит воздух – будто сильный ветер дует » («Березовый сынок», нанайская народная сказка). В результате прохождения через испытания тайгой или лесом герой становится сильнее.
Нельзя не отметить тот факт, что в нанайском фольклоре обитатели тайги являются прародителями человеческого рода. Например, в нанайской легенде рода Самар присутствует следующий сюжет: « Давно-давно в одном селении от эпидемии умерли все его жители. Одна только девушка в живых осталась. Горюет, плачет – одна-одинешенька. И вот однажды вышла она из дома, над которым кружился коршун – пичуэн. Помет его упал ей на плечо. От этого-то и забеременела девушка и родила сына. Выкормила сына молодая мать, пользуясь остатками пищи, оставшейся в селении в домах умерших людей. Мальчик вырос, купил жену, и у них родились три сына, которые стали “храбрыми людьми”, первыми в роде Самар – самагирами »1.
Особо почитались среди нанайцев такие обитатели тайги, как медведь и тигр. Медведь пользовался уважением за некую внешнюю схожесть с человеком, конкретно – его способность передвигаться на двух лапах, напоминая хождение людей, а также умение строить собственное жилище (берлогу) (Старцев, 2017: 7), говорить: « Видит сон: подошел будто к нему медведь и говорит: “Направо в распадке две речки текут; в одной реке вода белая, в другой реке вода красная. Красной воды в чумашке набери, ту березу сбрызни !”» («Березовый сынок», нанайская народная сказка).
Уважение к медведю было основано и на страхе перед ним, поскольку нанайский народ верил в то, что «хозяин тайги» не прощает своих обидчиков и способен их отыскать и наказать даже в их могиле. Образ медведя как типичного представителя региональной фауны и сакрального животного задействован в нанайских легендах. В качестве примера считаем возможным привести знаменитую нанайскую легенду об истории несчастной любви Адзи, дочери шамана, и молодого охотника. Шаман не одобрил отношения молодых людей, спровоцировав их на побег из нанайского поселения. Разгневанный отец в облике медведя настиг влюбленных. Адзи, не желая смерти никому в схватке отца и жениха, обратилась к добрым духам и остановила время: « так и окаменели шаман и охотник с собакой »2.
Одновременным символом добра и зла (злой дух Амба) выступал тигр (например, нанайская сказка «Тигр»). По представлениям аборигенов Приамурья, тигр требовал особого уважения, «иначе можно было обидеть тигра и навлечь беду на все нанайское стойбище» (Старцев, 2017: 89). Происхождение от тигра, в представлении автохтонного населения, вело большинство территориальных подразделений нанайского рода – Бельды, Актанко, Одзял и др. О родственной связи человека и тигра свидетельствует, в частности, нанайская сказка «Жадный Канчуга».
Исследование репрезентации образа тайги позволило установить значимую роль тайги в жизни нанайцев, ее конкретно-бытовые характеристики, а также значение в формировании религиозно-мифологических воззрений народа.
На основании изучения материалов нанайского фольклора можно сделать несколько выводов в отношении миромоделирующей функции природных образов.
-
1. Фольклорные тексты фиксируют картину мира того или иного этноса, состоящую их элементов, описывающих как окружающие народ реалии, его быт и род занятий, так и религиозномифологические воззрения и восприятие пространства.
-
2. В нанайском фольклоре среди многочисленных природных образов можно указать на образы реки и тайги как миромоделирующие образы, т. е. образы, которые позволяют конструировать картину мира коренного населения Приамурья.
-
3. Нанайцы испытывают амбивалентные чувства в отношении реки Амур и окружающей их стойбища тайги. С одной стороны, указанные ландшафтные особенности являются природной кладовой, источниками жизни для коренного населения, обеспечивая их едой, одеждой, жилищем и прочими необходимыми для жизни предметами. С другой стороны, река и тайга мифологизируются как гиблые и опасные места, особый мир, первичный по отношению к человеку и противопоставленный ему.
-
4. Согласно нанайскому фольклору, животные и птицы – обитатели тайги – являются прародителями нанайского населения, а также символами добра и зла, тем самым подчеркивается высокая степень не только уважения, но и страха в отношении природы Приамурья.
-
5. Интерпретация природных образов региональных фольклорных текстов позволила выявить некоторые черты национального характера коренного населения, в частности трудолюбие, одаренность, искусность, верность и смелость в бою и труде, любовь к родине.
Анализ образов реки и тайги, репрезентированных нанайским фольклором, дает возможность описать картину мира коренного населения Дальнего Востока и выявить уникальность данной территории.
Список литературы Миромоделирующие природные образы в нанайском фольклоре
- Баева Л.В. Ценностные основания индивидуального бытия: опыт экзистенциальной аксиологии. М., 2003. 238 с.
- Васильев А.В. Понятие «тайга» в сибирском дискурсе XIX в. и его интерпретации // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 461. С. 123–130. https://doi.org/10.17223/15617793/461/14.
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 1. М., 1968. 312 с.
- Ильчукова О.С. Функциональные возможности образа // Science Time. 2015. № 10. С. 112–119.
- Киле С.С. Нанайский фольклор и его жанры // II Междунар. симп. на языках коренных малочисленных народов Даль-него Востока РФ: сб. материалов. Южно-Сахалинск, 2020. С. 35–39.
- Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка // Вопросы когнитивной лингвистика. 2009. № 1. С. 5–12.
- Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: ранние формы и архаические памятники. М., 2004. 462 с.
- Мельникова С.В. Путь в Сибирь как опыт «пороговой» ситуации в мемуарах православного духовенства XVII–XIX вв. // Сибирский филологический журнал. 2022. № 4. С. 63–76. https://doi.org/10.17223/18137083/81/5.
- Москалюк М.В., Серикова Т.Ю. Влияние хронотопа природного ландшафта на формирование образной структуры литературного и живописного произведений пейзажного жанра // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2017. № 2 (40). С. 217–224.
- Старцев А.Ф. Этнические представления тунгусо-маньчжуров о природе и обществе. Владивосток, 2017. 232 с.
- Фетисова Л.Е. Повествовательный фольклор тунгусо-маньчжурских народов в свете этнокультурных контактов // Известия Восточного института. 2016. № 1 (29). С. 33–39.
- Madhavi K.R., Done H. River: A boon or a bane // International Journal of English Literature and Social Sciences. 2019. Vol. 4, no. 2. P. 485–487. https://doi.org/10.22161/ijels.4.2.43.