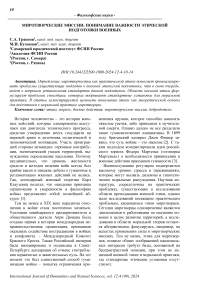Миротворческие миссии: понимание важности этической подготовки военных
Автор: Грязнов С.А., Кузнецов М.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 12-4 (99), 2024 года.
Бесплатный доступ
Определение миротворчества как практической этики помогает проанализировать проблемы существующих подходов к военной этической подготовке, что в свою очередь, ведет к вопросам установления стандартов данной подготовки. Область военной этики формулирует проблемы способами, которые подрывают стандартные установки для моральной практики. В статье иллюстрируется ценность понимания этики как теоретической основы для подготовки к моральной практике миротворцев.
Этика, мораль, боевые действия, миротворческие миссии, добродетели
Короткий адрес: https://sciup.org/170208592
IDR: 170208592 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-12-4-10-14
Текст научной статьи Миротворческие миссии: понимание важности этической подготовки военных
История человечества - это история военных действий, которые одновременно выступают как двигатели технического прогресса, средства утверждения места государств на мировой арене и источника политической и экономической мотивации. Участь проигравшей стороны незавидна: огромные контрибуции, экономический упадок территорий, вынужденное перемещение населения. Поэтому неудивительно, что уровень жестокости средств и методов ведения войн всегда был крайне высок и никакие дебаты о гуманизме и регламентации военных действий не велись. Так, легендарный военный теоретик Карл Клаузевиц полагал, что «введение принципа ограничения и умеренности в философию войны представляет собой полнейший абсурд» [1].
Тем не менее в XIX веке парадигма отношения к войне стала постепенно меняться. Усилиями швейцарского предпринимателя и общественного деятеля Анри Дюнана была создана первая в истории международная неправительственная организация, призванная оказывать содействие пострадавшим в войнах и конфликтах - Международный Комитет Красного Креста. Также Российской империи была инициирована и подписана в Санкт-Петербурге декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль. На тот момент это был единственный способ гуманизации войны - попытка ограничения при- менения оружия, которое способно наносить тяжелые увечья, либо приводили к мучительной смерти. Однако далеко не все разделяли такие гуманистические инициативы. В 1899 году британский адмирал Джон Фишер заявил, что суть войны - это насилие [2]. С таким подходом контрастировали идеи российского юриста Федора Мартенса («оговорка Мартенса») о необходимости привнесения в военные действия принципов гуманности [3].
Военнослужащие регулярно подвергаются высокому уровню стресса и переживаниям, которые могут вызвать дилеммы и гипотетические моральные рассуждения. Научная литература, сосредоточена на практических проблемах, существующих в исследовании области преподавания военной этики, однако мало исследований посвящено практическим проблемам, касающимся этики миротворцев. Сегодня миротворцы одновременно являются дипломатами и работниками по оказанию помощи в целях развития территорий, а исследования в области моральной теории остаются абстрактными, фокусируясь, например, на аспектах применении силы в миротворческих миссиях. Тем не менее, этика для миротворцев, помимо общих соображений национальных интересов требует базы, основанной на беспристрастной позиции, при этом не лишенной военной этики и моральной практики, где стандартные этические установки отсутствуют.
Формальная этическая подготовка военных, несмотря на заявление о важности этики добродетели, часто опирается на набор довольно жестких правил, например, правила поведения в бою, международное право. Эти подходы имеют ограничения в отношении предвидения обстоятельств или уже произошедших стрессовых ситуаций. Таким образом, при отсутствии стандартных установок возникает противоречие между этическими и правовыми требованиями, этической подготовкой и подготовкой к моральной практике, где подготовка остается ограниченной гипотетическими подходами и конкретными знаниями о миссии. С другой стороны, военная подготовка часто фокусируется на этике добродетели, которая не обязательно совместима с формальными требованиями. Это противоречие приводит к проблеме согласования двух подходов и оценки их эффективности.
В частности, важна ценность понимания этики как теоретической основы для противостояния и подготовки к моральной практике, что может обеспечить баланс между этической теорией и моральной практикой, подходящий для миротворческих миссий, особенно при акценте на размышлениях и диалоге, практикуемых на всех уровнях и рангах. В конечном итоге, этика может лучше помочь миротворцам оценить почему, что и как они делают, тем самым подготавливая их к моральному выбору в непредвиденных обстоятельствах. Таким образом, призыв к расширению теоретизирования по подготовке к миротворчеству в целом и его этической подготовке в частности, видится актуальным, поскольку существует несколько пробелов, касающихся этической подготовки в контексте миротворчества.
Традиционная военная этика фокусируется на цели военной практики отдельного человека, например, кем ему быть – «мечом» или «щитом» для общества. Чтобы служить «мечом», требуется этика, адаптированная к требованиям, которым отвечают военные, служа нации. Напротив, «щит» – это фокус на характере военнослужащего, где его сильный, но человечный характер является своего рода щитом для него самого, необходимым для защиты от стрессов, искушений и потерь войны. Различие между двумя подходами устраняет разрыв между обучением и применением этики. Опора на подход «меча» означает служение набору более или менее абстрактных идей (народу; сообществу). Подход «щита» больше тяготеет к индивидуальной перспективе размышлений об этике, с чего обычно и начинается этическая подготовка [5].
Признанным этическим стандартом, передаваемым на индивидуальном уровне, является уважение к личности. Так, преданность, долг, бескорыстие, служение, честь, честность и личное мужество формируют базу уважения к личности, основанную на верховенстве закона (хотя преданность и долг являются ценностями, ориентированными на группу). Это рассуждение является очевидным примером пересечения между вышеупомянутой близостью военной этики к этике добродетели и формальными требованиями следования организационным правилам. Добродетели – это черты характера и привычки, приобретаемые путем обучения и практики, и обеспечивающие контекст для практического выбора. Этическое образование демонстрирует добродетели, среди которых, пожалуй, наиболее заметны справедливость, мужество и честность. Этика добродетели фокусируется на размышлениях о том, кем является человек и кем он должен быть, делая акцент на действующем лице, а не на действии. Добродетели развиваются и усваиваются на практике и в обществе, а не автономно, следуя формальным правилам. Хотя преподавание и обучение этике – это практика, ориентированная на агента, военная этика требует, чтобы агенты рассматривали свою профессию как практику в обществе и для общества.
Помимо определения добродетелей, важным моментом является то, что упорядочивающим принципом для практикующего служит концепция благополучной жизни, в которой он видит себя в положительном повествовании. С точки зрения военнослужащего, военная этика не только соответствует таким благам, как товарищество, она также касается жизни, встроенной в определенный нарратив (культурную традицию), в котором человек видит себя (например, национальное общество или сообщество). Более того, воинские добродетели развиваются в военном сообществе (через товарищество) или при столкновении с этическим выбором во время миссий. Такие добродетели, как верность и долг, опи- раются на преданность индивида коллективу (сообществу), поэтому моральные практики обязательно встроены в конкретные членства. Другими словами, невозможно обучать и ожидать этичного поведения, основываясь только на абстрактных аргументах. Подход этики добродетели менее сосредоточен на этике, основанной на правилах, и более – на жизненных практиках сообщества. Таким образом, этика встроена в практику бытия военнослужащего в сообществе вооруженных сил, поэтому возникает вопрос о том, в каком повествовании индивид видит себя? Вопросы, подобные этому, имеют значение, если размышлять о том, как и что теоретизировать в миротворческой этике, чтобы подготовиться к моральной практике в неопределенных и непредвиденных обстоятельствах.
Миротворцы по всему миру и из разных культур собрали определенный набор инструментов, чтобы быть готовыми к этическим дилеммам, когда, например, правила ведения боя не дают советов о том, что делать и чего не делать (в контексте применения силы). Однако во время военных действий невозможно исключить все неэтичные и безнравственные решения, следует понимать, что не все возможно разрешить этично (например, «дилемма вагонетки»). Тем не менее способность размышлять об этике снижает вероятность неэтичного выбора или присоединения к другим лицам, которые не действуют этично. Сосредоточение внимания на этом аспекте снижает риски действий, которые считаются антитетическими и наносят вред любым этическим стандартам. Характер самых первых и традиционных миротворческих миссий (ООН) в основном описывался как зависящий от неприменения силы и политического символизма. Однако, когда миротворческие силы начинают применять силу, они неизбежно становятся частью структуры конфликта. Учитывая эти изменения, правила применения силы для миссий по обеспечению соблюдения этических норм часто остаются неясными с точки зрения их практического применения и этических принципов.
Миротворцам необходимо размышлять над определенными ценностями, чтобы действовать в соответствии с правами человека, а не только законно (применять этику и этическое поведение в смысле выполнения приказа).
Для этого необходимо не только знать и понимать права человека, но и отождествлять себя с их ценностью. Конечно, этот эмпатический подход должен соответствовать балансу между военными и моральными потребностями. Военные несут моральную и социальную ответственность, поскольку они профессионалы, что среди прочего означает ответственность военнослужащего перед обществом – этические обязательства объективны и не должны завесить от личных желаний человека. В любой профессиональной этике «хорошее и плохое» определяются, отчасти функционально – тем, какой вклад профессия вносит в общество.
Способность размышлять об этике (осознавая ценность прав человека) снижает вероятность неэтичного выбора на практике. Для всестороннего понимания ценности определенных задач военным необходимы данные и инструкции относительно конкретных обстоятельств, с которыми сталкивается миссия (политические, культурные или религиозные особенности). Помимо определения этических стандартов (перечня конкретных добродетелей), принцип упорядочивания практики должен начинаться с осознания и представления индивидуума о благополучной жизни, сформированного конкретными нарративами.
Резюмировать вышесказанное можно следующим. Этическая подготовка, которая готовит к моральной практике, полезна и актуальна и не в последнюю очередь для изучения миротворцем образа самого себя, своих этических рамок и границ. Хотя этическая подготовка миротворцев предполагает элементы добродетели, но также указывает на ошибочные пути этой этики, особенно если нет систематического способа обучения или доступных образцов для подражания. Например, добродетели могут не разделяться единогласно как в самой профессии, так и в других сферах деятельности. Миротворцы, имеющие практический опыт противостояния моральным дилеммам, особенно подходят для передачи того, что на самом деле значит миротворчество. В этой связи опыт «прибывших» из миротворческих миссий может помочь улучшить теоретическую подготовку «готовящихся к отправке» [4].
Следует отметить, что миротворческая этика также нуждается в формальном входе – не только в моделях морального обоснования и обсуждении гипотетических сценариев, но и в том, чтобы заранее предоставить понимание культурных или политических деталей местной ситуации. Это могут быть языковые барьеры и разные цепочки командования, но также и разное понимание того, как использовать моральный словарь при столкновении с разными людьми, культурами, религиями и претензиями на легитимность. Формальный вход важен не только для достижения всесторонне- го понимания и сопереживания, но и для передачи смысла миссии.
Различные мандаты играют важную роль в проведении миссий. Например, мандаты от- ведения боя призывает к другому кодексу этики, поскольку они полагаются не только на самооборону, но и на защиту других. В качестве темы будущих исследований можно предложить рассмотреть, как происходит взаимодействие между этическими представлениями миротворцев и нормативными политическими концептуализациями и конфликтующими легитимностями, которые формирует практику миротворчества. Потому что, в конце концов, этическая подготовка, понимаемая как моральная практика, не в последнюю очередь заключается в том, чтобы примириться с этическими стандартами и требованиями общества принимающей стороны, которые в носительно мотивации миротворцев и аспек- первую очередь имеют отношение к миро- тов преподавания этики, традиционно привязанных к определенному национальному обществу. Так, националистические настроения не обязательно мешают готовности миротворцев сражаться, чтобы защитить местных гражданских лиц, но эти настроения также обычно не предсказывают активную защиту. Это особенно касается случаев, когда правила творчеству.
Таким образом, этика миротворцев нуждается в компоненте, который доступен в руководствах и передается с помощью формальных методов, но также требует размышления и диалога между миротворцами, обществом и сообществом.
Список литературы Миротворческие миссии: понимание важности этической подготовки военных
- Сазонова К. Игра по правилам и без: регламентация средств и методов ведения военных действий. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/igra-po-pravilam-i-bez-reglamentatsiya-sredstv-i-metodov-vedeniya-voennykh-deystviy/?sphrase_id=127131969 (дата обращения: 23.11.2024).
- Сенченко Н.Д. Первый морской лорд Великобритании Дж.А. Фишер в восприятии современников / Н.Д. Сенченко // Студенческая наука и XXI век. - 2020. - Т. 17, № 1-2 (19). - С. 181-182. EDN: TRVDMT
- Кукушкина А.В., Иойрыш А.И., Шишкин В.Н. Международное гуманитарное право и оговорка Мартенса // Закон и право. - 2019. - №9. EDN: URLACB
- Мудров Н.М. Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций как эффективный инструмент поддержания международного мира и безопасности / Н.М. Мудров // Союз криминалистов и криминологов. - 2020. - № 2. - С. 58-64. DOI: 10.31085/2310-8681-2020-2-208-58-64 EDN: TCKKNE
- Whetham D. Military Ethics Education - What Is It, How Should It Be Done, and Why Is It Important? // Conatus - Journal of Philosophy. - 2023. - № 8 (2). - P. 759-774. EDN: MZRIUT