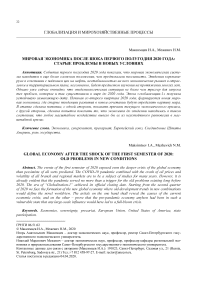Мировая экономика после шока первого полугодия 2020 года: старые проблемы в новых условиях
Автор: Максимцев Игорь Анатольевич, Межевич Николай Маратович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Глобализация и мирохозяйственные процессы
Статья в выпуске: 3 (123), 2020 года.
Бесплатный доступ
События первого полугодия 2020 года показали, что мировая экономическая система находится в еще более сложном положении, чем предполагали пессимисты. Эпидемия коронавируса в сочетании с падением цен на нефть, нестабильностью на всех экономических рынках в отраслевом и территориальном плане, несомненно, будет предметом изучения на протяжении многих лет. Однако уже сейчас очевидно, что эпидемиологическая ситуация не более чем триггер для запуска тех проблем, которые и так существовали в мире до 2020 года. Эпоха «глобализации-1» получила устойчивую замыкающую дату. Начиная со второго квартала 2020 года, формируется новая мировая экономика, где старые тенденции развития в новом сочетании будут определять картину мира. В статье сделана попытка, с одной стороны, показать причины текущего экономического кризиса, с другой стороны, сделана попытка показать то, что экономика до эпидемии находилась в таком состоянии, что любое масштабное воздействие вывело бы ее из неустойчивого равновесия в масштабный кризис.
Экономика, суверенитет, прекариат, европейский союз, соединённые штаты америки, роль государства
Короткий адрес: https://sciup.org/148320171
IDR: 148320171
Текст научной статьи Мировая экономика после шока первого полугодия 2020 года: старые проблемы в новых условиях
Начать статью мы хотели бы цитатой: «Политические события последних двух лет сформировали атмосферу неопределенности вокруг глобального сектора здравоохранения. В США попытки сдержать государственное участие в этом секторе выразились в том, что с 1 января 2019 г. покупка полиса индивидуального медицинского страхования уже не стала обязательным условием. В Европе Брекзит, по всей вероятности, может вызвать дестабилизацию фармацевтического рынка, рынка рабочей силы в здравоохранении и исследований в этих сферах» [15, с. 130]. Но не только глобальное здравоохранение влияет на современное развития мировой экономики. Есть и другие мощные факторы, вызывающие в ней тектонические сдвиги. Рассмотрим их более детально.
Основные тенденции развития глобальной экономики к 2020 году
Изучение современной ситуации в мировой экономике опровергает тезис о том, что «не могут же теоретические построения бесконечно противоречить действительности!» [23, с. 3]. Выясняется – могут. О том, что ситуация в глобальной политике и экономике – это движение в тупик, дискуссии идут с середины 90-х годов прошлого века. «Сегодня мир, почти лишенный путевой нити, пытается наощупь найти новый баланс, новое соотношение сил между государством, рынком и гражданским обществом», – писал М. Хансен, Генеральный директор международной организации труда [5].
Все проблемы глобальной экономики, обсуждаемые в настоящее время, не являются новыми [16, с. 18]. По-прежнему справедлив тезис о том, что «мировые экономические кризисы – нарушения равновесия между спросом и предложением в рыночной системе хозяйства происходят с циклическим постоянством» [18, с. 156]. Иная ситуация возникает в тех случаях, когда экономический кризис сочетается с иными не менее масштабными вызовами.
Ключевые признаки медленно входящего в нашу жизнь кризиса неоднократно указывались: «В прошедшие десятилетия (и даже столетия) интеллектуальную моду задавал Запад, и теперь большинство там просто не желает принять новые реалии. Ведь чаще всего они указывают на долгосрочное ослабление западных позиций в геополитике, экономике, идейной сфере» [13]. Показательно то, что автор этого тезиса профессор С. Караганов – один из ведущих российских теоретиков в сфере мировой политики – далеко не сразу пришел к подобному критическому отношению к «глобальному Западу».
Сопротивление интеллектуальной унификации характерно не только для «не Запада», но и для проверенных соратников Вашингтона. «Американская гегемония была эффективна в условиях, когда главный противник предыдущего конкурентного цикла международных отношений – Россия – пребывала в состоянии внутренней смуты, провала, а затем неровного восстановления, а основной нарождавшийся соперник – Китай – был всецело сосредоточен на задачах внутреннего развития. Когда же в России решили, что у страны достаточно сил для возвращения в большую игру держав, а США заметили, что Китай обыгрывает их на экономическом поприще и может составить серьезную конкуренцию в технологической сфере, тогда державный мир – закончился» [22].
Перспективы мировой экономики в январе 2020 года Всемирный банк охарактеризовал так: «Медленный рост, политические вызовы» [19]. Однако и в этом обзоре Всемирного банка указывается на беспрецедентный рост объемов долгов, причем необеспеченных, и длительное замедление темпов роста производительности труда. Прогноз был сделан следующий – темпы роста мировой экономики поднимутся до 2,5%. При этом «рост производства на душу населения останется гораздо ниже многолетних средних показателей, равно как и уровня, необходимого для достижения целей сокращения масштабов бедности» [19]. Еще одной проблемой стала «самая широкомасштабная за последние 50 лет волна наращивания долгов в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах». Добавим, наращивание долгов характерно и для развитых стран, причем именно там это необъяснимо «болезнями роста».
К критическим императивам мировой экономики мы относим рост социального неравенства, классическую безработицу, разрушение среднего класса и рост прекариата. В начале второго десятилетия 21 века лишь американский Национальный Совет по разведке прославился абсолютно ошибочным прогнозом: «На протяжении следующих 15-20 лет влияние граждан значительно возрастет за счет уменьшения числа самых бедных и отверженных членов общества при росте мирового среднего класса» [7, с. 8]. Не успела высохнуть типографская краска, как выяснилось, что прекариат численно рас- тет всюду, включая и сами США. «Оставшись один на один с озлобленным прекариатом, усиленным технологиями социальных сетей, эта не заслужившая доверия власть все чаще обнаруживает свою недоговороспособность» [17].
Аналитики Saxo Bank, известного не только финансовыми операциями, но и интересными прогнозами, отметили во второй половине 2019 года: «Мы отказываемся от того самого экономического механизма, который сделал старшее поколение «богатым», и рискуем получить постоянный разрыв в уровне достатка поколений и несправедливой экономике … В этих условиях мы рассматриваем 2020 год как год, в котором главной темой станет нарушение статус-кво» [25]. Эпидемия несколько пролонгировала данный прогноз, но проблема, как ключевая, диагностирована задолго до 2020 года.
Проблема в том, что государства, претендующие на лидерство, утрачивали объективные экономические предпосылки для этого. Причем и среди традиционных лидеров согласия нет. «Крупнейшие государства мира, включенные формально в «коллективный Запад», не имеют достаточных ресурсов, чтобы сдерживать новый американский «однополярный эгоизм», масштабы которого были обозначены Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе» [8]. При этом «однополярный эгоизм» не соответствует реально существующей экономической расстановке сил. Какие бы формы не приобрел кризис в Европе и Азии, Америку он не минует. Именно поэтому формула: «Мировая экономика концентрируется в нескольких ключевых странах» [26, р. 425] не то чтобы устарела, но требуется признать изменение списка этих ключевых стран.
Следующая проблема – глобальный кризис договороспособности. «Какой бы конфликт ни вспыхнул, между державами всегда доминировало стремление назначить противную сторону «гитлером», борьба с которым может завершиться только с полным уничтожением противника» [1]. Это было до 2020 года, но как данный фактор действует в кризисное время? Конечно, этот тезис можно трактовать как относящийся к мировой политике, а не мировой экономике. Однако в современных условиях попытка провести границу между мировой политикой и мировой экономикой как минимум вызывает удивление. «Право писать новые правила игры можно либо завоевать, либо купить» [17], иными словами, ключевая победа в политике возможна или военными методами (в данной статье они не рассматриваются), или через установление контроля в мировой экономике. Однако в текущих условиях экономическая победа одного центра невозможна. Мир стал многополярным, хотя понимание этого обстоятельства еще не стало общим.
Заново следует посмотреть на требования, которые предъявляются к мировым организациям. В идеальном варианте они должны достраивать систему, где основными игроками являются государства. При этом государства должны делегировать часть своих полномочий международным организациям, что и сделали практически все, включая признанного лидера – США. На определенном этапе США устраивала работа МВФ, Всемирного Банка, ВТО с позиций их поддержки лидирующей роли своей страны в глобальной экономике. Логика первого этапа глобализации предполагала, что правила и нормы относительно справедливы. В настоящее время статус международных организаций оспаривается не только США, но и пандемией, а также неизбежным ростом регионального эгоизма. Если международные организации, к примеру Всемирная организация здравоохранения, превратились в «памятники самим себе», то последняя надежда остается на «свое» государство. Об этом далее…
Задолго до 2020 года стало понятно то, что «сегодня принцип конкуренции и открытости в мировой торговле всё чаще подменяется протекционизмом, экономическая выгода и целесообразность – идеологической конъюнктурой и политическим давлением. Экономические связи, предпринимательская свобода становятся объектом политизации» [4]. В условиях кризиса предпринимательская свобода не просто ограничивается, а становится объектом государственного регулирования, при высоком уровне общественного одобрения. Однако многоуровневое и экономическое, и политическое давление государств на чужой, а не свой бизнес стало новой нормой незадолго до кризиса 2020 года. Важный вопрос связан с тем, как относиться к государственному вмешательству в новых условиях после первых побед и поражений в борьбе с эпидемией?
Появились ли новые проблемы в старой Европе?
В марте 2010 года была одобрена европейская стратегия экономического развития. Этот план, названный «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» [9, с. 1], интересен тем, что представляет собой удивительный пример несовпадения желаемого и действительного.
2020 год начался в Европе многочисленными призывами к единству и лозунгом «сделаем Европу великой снова». Джозеп Боррелл (Josep Borrell) – верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Еврокомиссии справедливо указал на то, что «Европе надо избегать отстраненности и распыленности. Отстраненность означает придерживаться мнения, будто проблемы мира слишком многочисленны или слишком далеки, чтобы тревожить всех европейцев. Для общей стратегической культуры крайне важно, чтобы все европейцы воспринимали угрозы безопасности как нечто неделимое» [2]. Ценность данной сентенции не превышает актуальных рекомендаций капитана «Титаника» сохранять спокойствие при посадке в шлюпки.
В течение последних десятилетий практически по всем вопросам повестки дня «позиция Брюсселя заключалась в следующем: либо вы делаете, как мы хотим, либо мы вообще ничего не делаем» [3, с. 38]. Однако, как поступать в том случае, если у Брюсселя нет стратегии действий? Данный тезис относится, как к политике стран внутри ЕС, так и государств за его пределами. Недовольство политикой Брюсселя, впрочем, скрываемое, было характерно для всего последнего десятилетия и практически для всех стран последних трех расширений. Текущий кризис, как экономический, так и эпидемиологический, показал, что «слишком зацикленная на внутренних проблемах, Европа не сможет представить ресурсы для преодоления кризисов в странах соседних регионов» [7, с. 14]. Однако Европа не может предоставить ресурсы и для себя, эволюционировав в совокупность национальных государств.
Ситуация 2019 года может быть охарактеризована словами профессора Евстафьева: «Экономическая стагнация стран «старой Европы», их социальные проблемы и втянутость в торговые войны с США создают реальную геоэкономическую основу для формирования «перехватывающего» геоэко-номического центра, к тому же обладающего собственной политической идентичностью и военносиловым потенциалом. Чем дальше ситуация в Европе будет развиваться в сегодняшнем русле, тем более серьезные перспективы будут у данного проекта» [10].
Развитие Европы как экономического и политического объединения вызывало вопросы безотносительно к кризисам 2020 года. Реальная политическая практика государств Европы – «поддержать национальное сообщество, даже если это означает пожертвовать международным» [24]. Разрушение единого экономического пространства следует считать маловероятным сценарием развития Европы, но даже ограничение шенгенских свобод, в конечном счете, будет иметь как социально-политическое, так и экономическое значение.
Вопрос о кооперации между государствами в чрезвычайных ситуациях поставлен под вопрос. Главной стратегией является опора на собственные ресурсы. Мощные общеевропейские институты, регулирующие кривизну огурцов, оказались абсолютно неэффективными в ситуации реальных вызовов. Кризис, связанный с беженцами, 2015-2018 гг. поставил вопрос об эффективности европейских институтов. Ситуация с короновирусом дала убедительный ответ. Основой европейской интеграции являлись принципы свободы передвижения людей, товаров и капитала. Все три принципа содержали определенные исключения, но работали до пандемии COVID-19.
В начале 2020 года никаких принципиально новых проблем экономического и политического развития в Европе не появилось. Повышенная волатильность цен на нефть не может рассматриваться как новый и/или уникальный фактор. После 1973 года скачки цен на нефть если не стали нормой, то и уникальными не являются. Впрочем, можно согласиться с тем, что сочетание эпидемиологических вызовов и повышенной волатильности нефтяных цен представляет собой проблему для Норвегии, не более.
Запас прочности Европы оказался достаточным исключительно для отражения виртуальных угроз (российской и китайской). Реальные вызовы, прежде всего внутренней природы, в Европе уже можно обсуждать, но пока их не готовы решать.
Заключение. Перспективы глобального развития в условиях вызовов 2020 года
Оценивая перспективы мировой экономики, наши коллеги из ИМЭМО РАН предложили на 2019 год три сценария динамики мировой экономики [11, с. 19]:
-
• первый (вероятность 35-40%) – сохранение циклического характера мировой экономики, позитивная финансовая конъюнктура после нестабильности конца 2000-х – середины 2010-х гг.;
-
• второй сценарий (вероятность – 35-40%) – рост волатильности мировой экономики и глобальных финансов до «предгрозовых» значений, в связи с началом циклического замедления производства в группе развитых экономик;
-
• третий сценарий (вероятность – 20-30%) – «штормовое» усиление в 2019 г. волатильности в одной из потенциально опасных точек глобальных финансов или обострение геополитических рисков, переходящих в финансовые.
Без учета каких-либо эпидемиологических факторов, а только в силу геоэкономических вызовов, мы видим, что реализовался третий сценарий. Уже второй квартал 2020 года показал экономический кризис на статистическом уровне, переведя этот вопрос из категории экспертных мнений в ранг статистического приговора. Кризис показывает невозможность сохранения даже тех скромных темпов роста мировой экономики, которые наблюдались в 2018-2019 гг. Важно отметить то, что выводы, сделанные по результатам кризиса 2008 года, и в целом правильные, не были реализованы: «Как показывает опыт кризиса 2008 года, согласованные консолидированные действия экономических и монетарных властей ведущих стран способны, по меньшей мере, обуздать наиболее опасные проявления разбалансировки мировой экономики» [12].
Проблема в том, что создать какую-нибудь математическую модель или эффективно использовать опыт прежних экономических кризисов достаточно сложно. Фактически речь идет о формировании нового опыта, опровергающего предшествующие представления.
Рассмотрим этот тезис на простейшем примере. «Чем сильнее будет влияние кризиса на экономику, тем больше стимулов будет у бизнеса сокращать издержки. Расходы на дорогостоящие офисы и рабочую инфраструктуру напрашиваются в первую очередь» [21]. Иные способы организации труда постепенно станут нормой. Эпидемия не даст качественно новых форм организации труда, но хорошо известные ранее модели получат стимулы для восстановления в новых условиях. Как на позитивную тенденцию указывалось на то, что «в тех же США около 70% всех офисов – это офисы открытого типа. Лишь немногие из компаний, которые опробовали такие офисы, возвращаются к старой практике, с отдельными кабинетами для всех, или же пробуют что-то еще, вроде удаленной работы из дома» [20]. Очевидно, достоинства старой «кабинетной» модели в новых условиях станут более очевидны.
Приведем еще один пример того, что новые условия актуализируют старые вызовы. Известно, что современные технологии дают большие возможности социального контроля. Однако, до «вируса» частная и публичная жизнедеятельность, как правило, были разделены. Этот подход поставлен под вопрос. При этом Китай дал свой ответ на вопрос: Кто в ответе за главное – безопасность и жизнь граждан? Традиционно считалось – государство, для того оно и существует согласно либеральной доктрине. Впрочем, стараниями ее идеологов в последние лет тридцать эта аксиома оказалась под вопросом: в глобализованном мире роль государства, мол, будет нивелироваться, оно станет терять функции в пользу гражданского общества, а также транснациональных институтов.
Докризисное развитие проходило в условиях, когда «объективно глобальный капитализм многократно превосходит национальный по своему потенциалу, но уступает по способности найти общественную опору, то есть фундамент реальной власти» [15]. Общественная опора формируется в условиях не просто доверия к государству, но и надежды на государство, дающее последний шанс для выживания в условиях чрезвычайной ситуации. Возврат к государству происходил до 2020 года потому, что «"внедрение" единых универсальных ценностей происходило таким образом, что у ряда стран возникли не только опасения за свои исторические, национальные, культурные и религиозные традиции, но и страх перед внешним посягательством на их государственный суверенитет» [6]. Именно государство является безальтернативным инструментом борьбы с кризисом.
Очевидно, перед нами не циклический, не отраслевой, не структурный и не денежно-кредитный или долговой кризис. Уже в апреле 2020 года очевидно, что элементы и признаки всех указанных видов кризиса присутствуют одновременно. Пандемия коронавируса, помимо вызовов, непосредственно связанных со здравоохранением, не вызвала ряд новых политических, экономических и социальных проблем. Более правильно говорить об актуализации всех накопленных за десятилетия проблем в экономической организации общества.
Если после кризиса 2008 года определенные надежды на межгосударственное сотрудничество сохранялись, то в 2020 году одним из вызовов будет ослабление всех интеграционных проектов и всех иных форм международного сотрудничества. Само понятие о мировой экономике предполагает существование определенной общности стран, связанных некоторыми правилами. «Война всех против всех» в условиях глобальной неопределенности лишь формально может считаться последствием пандемии.
Список литературы Мировая экономика после шока первого полугодия 2020 года: старые проблемы в новых условиях
- Бордачёв Т. Забыть Гитлера: война и дипломатия в XXI веке. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/zabyt-gitlera-v-xxi-veke (дата обращения 16.01.2020).
- Боррелл Дж. Применение европейской силы. Чтобы стать геостратегическим игроком высшего ранга, Евросоюз должен заново выучить язык силы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ipg-journal.io/rubriki/vneshnjaja-politika-i-bezopasnost/statja/show/primenenie-evropeiskoi-sily-993 (дата обращения 12.02.2020).
- Воловой В. Экономика и география: интеграция по необходимости // Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии. Сб. статей. Вильнюс, 2012.
- Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на совещании послов и постоянных представителей России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/58037 (дата обращения 19.07.2018).
- Доклад Генерального директора МОТ. "Ценности, которые мы защищаем, перемены, к которым мы стремимся. Социальная справедливость в условиях глобализации экономики". 81 сессия. Женева, 1994.