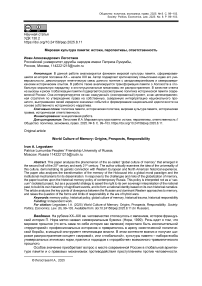Мировая культура памяти: истоки, перспективы, ответственность
Автор: Легостаев И.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной работе анализируется феномен мировой культуры памяти, сформировавшийся во второй половине XX – начале XXI вв. Автор подвергает критическому осмыслению идею его универсальности, демонстрируя генетическую связь данного понятия с западноевропейским и североамериканским историческим опытом. В работе также анализируется трансформация памяти о Холокосте в глобальную моральную парадигму и институциональные механизмы ее распространения. В качестве ответа на вызовы и риски глобализации памяти подвергается рассмотрению политика исторической памяти современной России. Она интерпретируется не как «вакуумный» (изолированный) проект, а как целенаправленная стратегия по утверждению права на собственную, суверенную интерпретацию национального прошлого, выстраивание своей иерархии значимых событий и формирование национальной идентичности на основе собственного исторического нарратива.
Политика памяти, историческая политика, мировая культура памяти, историческая травма, историческая ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149148906
IDR: 149148906 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/pep.2025.8.11
Текст научной статьи Мировая культура памяти: истоки, перспективы, ответственность
Введение . На рубеже XX–XXI вв. человечество столкнулось с явлением, которое французский историк П. Нора метко назвал «мемориальным бумом» (Нора, 1999). Речь идет о том, что мировое прошлое (то есть сама по себе история как явление) перестало быть исключительной «территорией» профессиональных историков и превратилось в арену ожесточенной политической борьбы, в мощный инструмент легитимации власти. В этом контексте возник и получил широкое распространение концепт «мировой», или «глобальной», культуры памяти – набора якобы универсальных этических норм, практик и подходов к «проработке» возможного травматического прошлого.
Особое значение приобретает вопрос о месте современной России в глобальной архитектуре памяти и о правовых механизмах противодействия преступлениям против человечности.
Российская Федерация, выступая правопреемником СССР, со времени завершения Второй мировой войны наделена особой исторической миссией и правовым долгом по защите принципов гуманизма и памяти о жертвах нацизма. Юридическим выражением такого подхода выступает статья 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, прямо предусматривающая ответственность за реабилитацию нацизма, что институционально закрепляет последовательную антитоталитарную и антигеноцидную линию Российского государства1. Эта политика не только опирается на историко-правовые основания, заложенные еще в период учреждения ООН и Нюрнбергского процесса, но и является значимым вкладом России в поддержание современных универсальных стандартов памяти, противодействия забвению и релятивизации итогов Второй мировой войны.
Однако при более пристальном рассмотрении за фасадом универсализма обнаруживается сложная и неоднородная структура, несущая на себе отчетливый отпечаток определенной политической и культурной традиции. Нормы и образцы культуры памяти, предлагаемые в качестве глобальных, зачастую оказываются локальными, западными по своему происхождению, возведенными в ранг общечеловеческих. Это порождает напряжение в тех обществах, чей исторический опыт и структура памяти не укладываются в прокрустово ложе предлагаемой модели.
Цель настоящей работы заключается в выявлении особенностей генезиса, структуры и внутренних противоречий феномена «мировой культуры памяти».
Научная новизна исследования заключается в нескольких аспектах. Во-первых, предлагается критический взгляд на концепт «мировой культуры памяти», который рассматривается не как естественный и гармоничный итог морального прогресса человечества, а как политически сконструированный и небесконфликтный проект с собственным центром силы. Во-вторых, вводится и обосновывается понятие «мнемополитического суверенитета» как ключевой аналитической рамки для понимания современной российской политики памяти. Это позволяет перейти от простого описания ее отдельных элементов к осмыслению целостной и последовательной стратегии. В-третьих, анализ российского дискурса о прошлом помещается в широкий международный контекст, что дает возможность увидеть в нем не аномалию, а один из вариантов ответа на глобальные вызовы, с которыми сталкиваются многие незападные цивилизации.
Основная часть . Феномен, который сегодня именуют «глобальной культурой памяти» (Миллер, 2024; Пахалюк, 2017), имеет вполне определенные историко-философские и географические корни, которые следует искать не столько в самом факте катастроф XX в., сколько в их последующем переосмыслении в рамках западноевропейской политической традиции.
Центральным, структурообразующим событием для формирования этой культуры стал Холокост, хотя, как отмечают исследователи, его превращение из трагедии сугубо еврейского народа в общемировой символ зла произошло не сразу. В первые послевоенные десятилетия память о геноциде евреев оставалась на сугубо национальном уровне, но поворотным моментом стали 1960–1980-е гг., когда такие события, как суд над А. Эйхманом, и культурные явления, как американский телесериал «Холокост», вывели эту тему в центр общественного внимания на Западе (Анкерсмит, 2012: 61).
Однако, как показывает глубокий анализ историографии и международного права, формирование универсальных категорий осмысления коллективного насилия и преступлений против человечности началось задолго до осмысления Холокоста как всемирно признанного символа зла. Так, само понятие «преступление против человечности» было впервые введено на международном уровне государствами Антанты еще в 1915 г., в связи с геноцидом армян в Османской империи. Дальнейшее развитие оно получило в практике Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками в 1945–1946 гг. Именно в решениях последнего были зафиксированы фундаментальные юридические определения преступлений геноцида, благодаря чему память о нацистских преступлениях с момента окончания Второй мировой войны приобрела не только национальную, но и международно-правовую основу.
Важнейшим нормативным актом, подготовившим институционализацию глобальных механизмов памяти и ответственности, стала Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. (резолюция 260 (III))2. Хронологически эти процессы шли параллельно ранней национальной коммеморации Холокоста, а их последствия – закрепление ответственности государств и необходимость противодействия геноциду – являются продуктом более широкой эволюции правовых и моральных принципов международного сообщества. Следовательно, интернационализация памяти о Холокосте во второй половине XX в. явилась не стихийным прорывом к «глобальному» сознанию, а закономерным этапом в градуальном развитии универсальных гуманистических стандартов.
Постепенно сформировалась устойчивая мнемоническая парадигма, которую большинство исследователей называет «терапевтической», в частности, такой позиции придерживается К. Флад (2004). Ключевые элементы ее включают центральность фигуры невинной жертвы, сочувствие к которой становится главным моральным элементом; императив покаяния для нации-«преступника» и наций-«свидетелей» как ключевой формы работы с прошлым; рассмотрение проработки травмы как необходимого процесса оздоровления нации и формирование «негативной идентичности», основанной не на гордости за свершения, а на общей памяти об ошибках, которые не должны повториться.
Именно эта модель, на наш взгляд, доказавшая свою эффективность в послевоенной Германии и органично вписавшаяся в либерально-гуманистическую идеологию, стала активно экспортироваться в качестве универсального принципа для работы с любым «трудным (или, если точнее выразиться, конфликтным) прошлым» (Гуторов, 2016: 15).
Здесь мы подходим к ключевой, на наш взгляд, проблеме: называясь «глобальной», эта культура памяти по факту является гегемонистской. Она устанавливает «иерархию страданий», где Холокост занимает место исключительной трагедии, служащей мерилом для всех остальных, что порождает, как бы это не звучало цинично, «конкуренцию жертв».
Более того, эта модель навязывает определенный политический и этический принцип, где требование покаяния становится инструментом давления, а страна, отказывающаяся сделать это в предписанной форме, автоматически маркируется как «нецивилизованная». Таким образом, культура памяти превращается в арену борьбы за символический капитал и моральное лидерство (Бурдье, 2007: 90).
Центральный механизм, обеспечивающий гегемонию данной модели памяти, – это не просто установление «иерархии страданий», а создание целой нормативной системы исторической травмы. Холокост в этой системе выступает не только как высшая точка трагедии, но и как «идеальный тип», лингвистический и семантический стандарт, через который должны быть пропущены и оценены все остальные исторические катастрофы. Эта грамматика имеет четкие критерии, зачастую невысказанные, но оттого не менее действенные.
Во-первых, это критерий безличности зла. Ужас Холокоста кодифицируется через образы лагерей, газовых камер, железнодорожных составов и скрупулезного учета. Трагедии, не вписывающиеся в эту модель, например, геноциды, совершенные с помощью мачете, голода или через разрушение традиционного уклада жизни, как в ходе колониальных завоеваний, оказываются в «уязвимом положении».
Во-вторых, это критерий «чистой, невинной жертвы». Идеальная жертва в этой концепции, на наш взгляд, абсолютно пассивна, невинна и деполитизирована. Ее страдание не является результатом сложного политического конфликта, в котором она могла быть активным участником, а предстает как результат иррациональной ненависти, направленной на саму ее сущность.
В-третьих, это четкое разграничение роли палача и жертвы. Модель требует ясной дихотомии, где позиции однозначно распределены. Это прекрасно работает для описания нацистского режима, но оказывается неадекватным для анализа сложных и запутанных гражданских войн, этнических чисток с обоюдной жестокостью или длительных колониальных конфликтов, где вчерашняя жертва может стать сегодняшним палачом, а циклы насилия растягиваются на десятилетия.
Это приводит к тому, что «конкуренция жертв» становится не просто циничным соревнованием, а фундаментальной борьбой за признание. Как полагает немецкий исследователь А. Ас-сман, приобрести статус «легитимной жертвы» в рамках глобального дискурса – значит получить доступ к символическому, политическому и даже финансовому капиталу (Ассман, 2016: 120).
Навязывание покаяния как универсального политического принципа превращает культуру памяти, на наш взгляд, в сложную систему морально-экономических отношений. В ней одни выступают в роли «моральных кредиторов», а другие – вечных «исторических должников».
Ключевая проблема этой системы – ее фундаментальная асимметрия. «Моральные кредиторы» зачастую сами обладают огромным, но нерефлексируемым историческим «долгом». Например, история колониализма, работорговли, интервенций и эксплуатации, совершенных многими западными державами, крайне редко становится предметом для столь же жестких и безапелляционных требований покаяния, обращенных к ним самим.
Таким образом, очевидно, что покаяние из внутреннего нравственного императива нации превращается во внешнеполитический инструмент. Оно позволяет на наш взгляд:
-
а) удерживать страны в состоянии моральной подчиненности. Постоянное напоминание о «грехах прошлого» не позволяет им претендовать на полноценный моральный авторитет на международной арене. Любая попытка проводить независимую политику может быть торпедирована апелляцией к их «неискупленной вине»;
-
б) создавать «символическую ренту». Страна-кредитор, не производя ничего материального, получает постоянный приток символического капитала, утверждая себя в роли совести человечества. Этот статус конвертируется во вполне реальное политическое влияние;
-
в) легитимизировать собственное доминирование. Представляя себя как конечную инстанцию в вопросах исторической правды и морали, гегемон косвенно утверждает превосходство своей политической и ценностной системы как единственно возможной для «цивилизованного» мира. Отказ принять его модель памяти приравнивается к отказу от самой цивилизованности.
Заключение . Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что феномен, обозначаемый как мировая культура памяти, в действительности не является универсальным и гармоничным продуктом морального развития человечества, а представляет собой политически сконструированную и гегемонистскую модель, генетически связанную с западноевропейским историческим опытом.
Исследование демонстрирует, что в основе данной модели лежит трансформация памяти о Холокосте, преобразованном из национальной трагедии в глобальную моральную парадигму, которая, в свою очередь, породила специфическую «терапевтическую» схему работы с прошлым. Эта концепция, основанная на императиве покаяния, фигуре пассивной жертвы и четком разделении ролей, была возведена в ранг единственно верного стандарта и институционально закреплена через международные организации.
Обобщая изложенное, можно утверждать, что трансформация памяти о Холокосте в один из глобальных этических стандартов была подготовлена целым рядом предшествующих международно-правовых шагов - от признания преступлений против человечности после Первой мировой войны до формирования системы ООН. Историческая эволюция гуманистических принципов, закрепленных в международном праве, а также последовательная политика Российской Федерации по их защите свидетельствуют о том, что современная мировая культура памяти представляет собой результат многоуровневого и длительного процесса, а не однолинейное следствие отдельного трагического события.
Современные подходы к мемориализации Холокоста предполагают не столько сакрализацию прошлого, сколько его интеграцию в практику предупреждения новых проявлений дискриминации и экстремизма. Важнейшую роль здесь играют образовательный и просветительский компоненты, нацеленные на формирование критического исторического сознания, а также воспитание гражданской ответственности и уважения к правам человека. В этом плане эффективная политика памяти становится инструментом противодействия ревизии исторических событий, отрицанию или умалению масштабов трагедии, а также распространению ксенофобских и неонацистских идеологий.
В этой связи происходит концептуальный переход от коммеморации как ритуального акта скорби к коммеморации как форме непрерывной социальной и интеллектуальной работы. Мемориальные комплексы и музеи трансформируются из пространств сакрального молчания в интерактивные диалоговые площадки, где посетитель из пассивного созерцателя превращается в активного участника процесса познания. Ключевой задачей таких институций становится не просто демонстрация артефактов трагедии, а моделирование для посетителя когнитивных ситуаций, требующих критической рефлексии и принятия этических решений. Через анализ пропагандистских материалов, изучение личных историй и биографий как жертв, так и преступников и наблюдателей формируется глубокое понимание механизмов дегуманизации и эскалации насилия.
Данный подход предполагает смещение акцента в образовательных стратегиях с простого накопления фактологических знаний о хронологии и масштабах геноцида на аналитическую деконструкцию предпосылок катастрофы. Изучению подвергаются не только события, но и структуры: социальные, политические, психологические и культурные, которые сделали возможным системное уничтожение миллионов людей. Анализ языка вражды, феноменов конформизма и коллаборационизма, бюрократизации процесса убийства и роли технологий позволяет извлечь из исторического контекста универсальные уроки. Такой аналитический метод нацелен на развитие у индивида «иммунитета» к манипулятивным технологиям, способности распознавать риторику ненависти и понимать социальные последствия безразличия и пассивности.
Таким образом, современная политика памяти о Холокосте выстраивается как многоуровневая система, где правовые механизмы противодействия экстремизму подкрепляются просветительскими и образовательными программами, формирующими устойчивые гуманистические ценности на уровне личности и общества. Память о трагедии перестает быть исключительно достоянием прошлого и становится действенным ресурсом для конструирования безопасного будущего, основанного на принципах толерантности, верховенства права и неотчуждаемости человеческого достоинства. Эффективность этой системы напрямую определяет социальную резиль-ентность, то есть способность общества противостоять внутренним и внешним вызовам, угрожающим его демократическим основам.