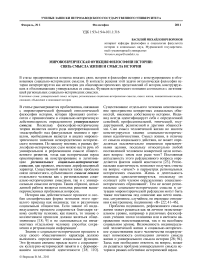Мировоззренческая функция философии истории: связь смысла жизни и смысла истории
Автор: Воронов Василий Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Универсальный смысл истории, региональные социально-исторические смыслы, смысл жизни, понимательная модель, описание, объяснение и понимание истории
Короткий адрес: https://sciup.org/14749848
IDR: 14749848
Текст статьи Мировоззренческая функция философии истории: связь смысла жизни и смысла истории
В статье рассматривается проблематика, связанная с мировоззренческой функцией онтологической философии истории, которая (функция) соотносится с привнесением в социально-историческую действительность определенного универсального смысла . Поскольку философско-исторические теории являются своего рода интерпретационной «надстройкой» над фактуальным знанием о прошлом, необходимым является и анализ мировоззренческого значения непосредственно исторического познания. По нашему мнению, в рамках философско-исторических схем можно вести речь об универсальном и рефлексивном смысле общественного развития, тогда как историческая наука ориентирована на конструирование и легитимацию региональных социально-исторических смыслов , как правило, имеющих дорефлексивный характер. Существенной является также проблема связи личностного, субъективного смысла жизни отдельного человека как с региональными социально-историческими смыслами, так и с универсальным смыслом истории. Таким образом, целью данной работы является попытка решения вышеперечисленных проблемных вопросов.
История как действительное прошлое и особая специфическая форма познания этого прошлого присуща как индивиду, так и различным социальным общностям. Если знание об индивидуальном прошлом сохраняется благодаря такому свойству психики, как память, то знание о коллективном прошлом должно являться общезначимым [18; 9] и не основываться на имманентных отдельному человеку способах сохранения и ретрансляции информации1.
Знание о социально-историческом прошлом в силу своего общезначимого характера должно выполнять определенные социальные функции. Эти функции связаны прежде всего с сохранением культурно-исторической памяти и с формированием коллективной идентичности [18; 110].
Существование отдельного человека невозможно вне пространства конкретных социальных общностей, имеющих собственную историю. Индивид всегда идентифицирует себя с определенной семейной, профессиональной, этнической, государственной, религиозной и другими общностями. Сам смысл человеческой жизни во многом конституируется такими социально-историческими идентичностями. Смысл жизни, в отличие от смысла социального действия, не может определяться исключительно внешними прагматичными целями, поскольку относительно любой поставленной человеком конкретной цели возможен вопрос: зачем или ради чего? Постоянная актуальность этого рефлексивного вопроса определяется фактом нашей конечности [23]. Региональная идентичность позволяет получать ответы на вопрос «зачем?» в параметрах региональных исторических смыслов. Жизнь и деятельность индивида самолегитимируются, поскольку он осознает себя членом определенных социальноисторических образований2. Тем не менее региональные социально-исторические смыслы в ситуации мировоззренческой рефлексии могут быть также поставлены под сомнение как нечто внешнее, ситуативное, случайное, не имеющее отношения к внутреннему, подлинному «Я» [22; 41–46].
Проблема подлинного, рефлексивного смысла жизни может решаться как на личном экзистенциальном уровне, например в различных философских учениях эпохи эллинизма или в светском направлении экзистенциализма, так и на всеобщем социальном уровне. Включенность индивидуальной человеческой жизни в социально-историческое существование всего человечества подразумевает возможность соотнесения личного смысла жизни и универсального смысла истории [26; 94]. Здесь нам необходимо ответить на вопрос, может ли решаться проблема универсального смысла истории в рамках собственно исторической науки.
История как форма познания основывается прежде всего на процедуре описания. Описанием является совокупность предложений, характеризующих определенный объект. В качестве элементарного объекта, как правило, выступает историческое событие [3; 118], [21; 142–147]. По мнению Р. Арона, нет существенного различия между микрособытием и макрособытием и между событием и совокупностью событий [1; 160]. По нашему мнению, для определения связанной совокупности событий оправданным является использование понятия «социально-историческая ситуация»3. Надо заметить, что историописание не ограничивается исключительно ситуативнособытийными рамками. Трансформация устойчивых социальных практик (материальных, экономических, религиозных, политических и др.) также находится в пространстве исторического познания. Формирование самостоятельной истории «практик» произошло только в XX веке в работах представителей первого поколения французской школы Анналов [12; 12, 49–56].
Описание неразрывно связано с объяснением, которое содержит в себе указание и обоснование той или иной «причины» [7; 163]. Историк, ограничивающийся только регистрацией очевидных, генетических причин, в какой-то мере действует подобно обывателю, рассказывающему «истории» из своей жизни. Проблемы исторического объяснения разрабатывались в рамках двух моделей: рационально-телеологической и дедуктивно-номологической. Модель дедуктивного «подводящего» объяснения была разработана К. Гемпелем [8; 72–80]. Структура объяснения включает в себя экспланандум – описание объясняемого события, и эксплананс – сопутствующие объекту условия, охватывающие универсальные законы или гипотезы. Отсутствие самих формулировок универсальных закономерностей, по мнению сторонников этой модели, связано с тем, что закономерности носят тривиальный характер [9; 230–232], [16; 305].
Рационально-телеологическая модель исторического объяснения была сформулирована У. Дреем. Согласно Дрею, объяснение исторических событий предполагает прежде всего выявление рациональных мотивов действующих лиц [10; 41–42]. Первоначально телеологическая и каузальная модели объяснения противопоставлялись друг другу [17; 104–105]. В дальнейшем тезис об их принципиальной «несовместимости» был поставлен под сомнение. Например, согласно П. Ри-кёру, в историческом познании присутствуют как каузально-номологические, так и телеологические объяснительные схемы [19; 258–259].
Необходимо отметить, что проблема объяснения несводима к логической (формальной) проблеме вывода причины, значимой является и собственно гносеологическая (содержательная) сторона. Выявить неочевидные причины событий возможно только при использовании теоретических схем, выходящих за пределы историо-писания. Соответственно, можно говорить о не- обходимости своего рода «теоретической интервенции». Здесь историк может опираться как на рационально-теоретические знания, так и на идеологические, мифологические, общемировоззренческие идеи4.
Исторические исследования по сути представляют собой достоверные описания и вероятностные объяснения ситуативно-событийных цепочек и устойчивых социокультурных практик. Такие частные описания и объяснения собираются, связываются и организуются преимущественно в рамках национально-государственных исто-рий5. Наличие современной государственности и необходимость ее легитимации обусловливают построение единой картины общего этногосудар-ственного прошлого [5; 4–5]. Таким образом, историческое познание конструирует и обосновывает региональные социальные смыслы, актуальные в настоящем.
Надо заметить, что необходимость подробного анализа конкретных событий и практик приводит к тому, что «чем больше мы знаем, тем труднее построить теорию исторического развития… путем обобщения эмпирических данных» [6; 3–4]. Также важно указать момент, очень точно схваченный М. Хайдеггером: любая наука, в том числе история, не может выйти за пределы своего предметно-объектного поля [25; 71–80]. Таким образом, понимание универсального смысла истории возможно только вне собственно исторического познания.
Универсалистская интерпретация истории становится возможной только в рамках определенного мировоззренческого подхода, направленного не на описание и объяснение конкретных фактов, а на понимание универсальной истории. Понимание связано с привнесением того или иного смысла. Впервые история приобретает универсальный смысл, связанный с возможностью всеобщего спасения, в христианском мировоззрении [2; 6–7]. Здесь опять-таки можно говорить о «теоретической интервенции», однако «интервенция» имеет здесь принципиально иной характер. Необходимо отметить, что хотя универсальный смысл общественного развития, постулируемый в рамках того или иного мировоззренческого подхода к истории, имеет интерсубъективный, общезначимый характер, принятие его в качестве личностно значимого предполагает индивидуальную сознательную активность.
Сами по себе мировоззренческие представления об истории наличествуют в общественном сознании в рассеянном, концептуально невыстроенном виде, они собираются и связываются в онтологических философско-исторических концепциях.
Привнесенный, конструктивистский характер смысла истории может осознаваться субъектом рефлексии. Так, по мнению К. Поппера, сама история никакого смысла не имеет, однако мы в зависимости от наших целей можем придать ей любой смысл [16; 120]. Надо заметить, что открытое признание конструктивистского характера универсального смысла подрывает мировоззренческие «корни» универсалистских философско-исторических теорий. Поэтому мы, осмысляя историю, постоянно находимся в ситуации выбора между двумя подходами: обоснованием абсолютного характера того или иного смысла и установкой на возможность привнесения любого актуального для нас смысла [20; 97–100].
Альтернативными являются попытки объективировать смысл общественного развития. Так, Н. С. Розовым выделяются три критерия оценки исторического прошлого относительно смысла истории: 1) биологическое выживание и воспроизводство; 2) социально-экономическое и культурное воспроизводство; 3) реализация интересов, потребностей и ценностных оснований различных социальных групп сообщества [20; 101]. По нашему мнению, такая объективация ведет к формуле: смысл исторического процесса заключается в успешном его течении подобно тому, как ценность жизни сама по себе может быть поставлена под сомнение, так и сама успешность хода общественного развития вряд ли может являться значимой для конкретного индивида. В рамках универсалистских онтологических концепций истории смысловая наполненность, как правило, связывается с векторной направленностью всемирно-исторического процесса, ведущего к определенному «концу» истории.
Кроме «конца» истории основными содержательными блоками философско-исторической схемы являются: «начало» истории, периодизация, движущие силы. Результатом содержательного наполнения этих категорий становится конкретная универсальная схема-структура всемирной истории, которая определяется в статье как « понима-тельная модель». Общность мировоззренческих и методологических установок различных теорий позволяет вести речь и о типах моделей. Например, различные христианские концепции всемирно-исторического развития находятся в пространстве теологической модели понимания истории.
В современной ситуации полностью спекулятивные построения не могут рассчитывать на широкое восприятие в социуме. Это актуализирует проблему взаимодействия онтологической философии истории и исторической науки [15; 6–10]. По мнению Н. С. Розова, решение этой проблемы возможно в результате создания организационной структуры социально-исторического знания по типу: «эмпирические исторические исследования» – «теоретическая история» – «философия истории» [20; 35–45]. Нивелировка данной проблемы может быть связана и с приближением философско-исторических теорий к научному социогума-нитарному знанию.
Надо заметить, что философско-историческая концепция может являться метатеоретической основой для исторической науки. Классическим примером является марксистская теория, которая выступает как методология исторического познания. Такая методологическая связанность универ- сальной модели общественного развития и региональных историй предполагает согласованность универсального смысла существования человечества и региональных социально-исторических смыслов. Региональные смыслы уже не нивелируются как нечто ситуативное, случайное, но переосмысляются, реинтерпретируются в соответствии с универсальным смыслом.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
Историческое познание при объяснении прошлого зачастую основывается на «теоретической интервенции», то есть на привнесении теоретических конструктов, напрямую не связанных с самим знанием о прошлом. Региональные истории позволяют конструировать региональные социальные смыслы, определяющие смысл жизни отдельного человека. В современной ситуации региональность историописания преимущественно связана с этногосударствен-ным измерением.
Понимание универсального смысла общественного развития осуществляется в рамках определенного мировоззренческого подхода. Мировоззренческие интерпретации истории также предполагают «теоретическую интервенцию». Концептуально структурируя, связывая и обосновывая мировоззренческие представления, которые сами уже являются теоретически нагруженными, философия истории становится своего рода метатеорией исторического процесса. Восприятие в обществе интерсубъективного смысла, раскрываемого в конкретной концепции, зависит от мировоззренческой укорененности философско-исторической схемы. Общность мировоззренческих, а следовательно, и методологических оснований различных теорий актуализирует проблему типологии понимательных моделей истории.
В онтологической философии истории связываются внешне направленное понимание, то есть осмысление мира, и внутренняя рефлексия субъекта. Региональные социально-исторические смыслы, во многом определяющие смысл жизни индивида в случае отсутствия внутренней рефлексии, либо снимаются как нечто ситуативное, несущностное, либо реинтерпретируются. В то же время подлинный, рефлексивный смысл жизни предстает здесь не в индивидуальном, а во всеобщем социальном измерении.
Смысл истории имеет конструктивный, привнесенный характер, однако признание этого положения подрывает мировоззренческие «корни» философско-исторической теории. Поэтому в рамках самой понимательной схемы смысл утверждается как нечто имманентное историческому процессу. Несмотря на то что попытки объективации универсального смысла общественного развития способствуют решению проблем, связанных с культурно-исторической и авторской субъективностью философско-исторических концепций, мировоззренческая ценность таких объективированных построений представляется сомнительной.
Список литературы Мировоззренческая функция философии истории: связь смысла жизни и смысла истории
- Арон Р. Историческое объяснение/Пер. с франц. И. А. Гобозова//Философия и общество. 2003. № 4. С. 156-192.
- Бойко П. Е. Становление понятия всемирной истории: историко-философский очерк/Под ред. Г. В. Драча. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2006. 95 с.
- Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность//Философия и методология истории: Сб. ст./Общ. ред. и вступ. ст. И. С. Кона; пер. с англ., нем., франц. Ю. А. Асева. М.: Прогресс, 1977. С. 115-142.
- Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. М.; Л.: Наука, 1964. 482 с.
- Валлерстайн И м. Существует ли в действительности Индия?//Логос. 2006. № 5 (56). С. 3-8.
- Вильчек В с. Прощание с Марксом: алгоритмы истории. М.: Прогресс: Культура, 1993. 223 с.
- Вригтфон Г. Х. Объяснение и понимание/Пер. с англ. Е. И. Тарусина//Вригт фон Г. Х. Логико-философские исследования: Избр. тр. М.: Прогресс, 1986. С. 35-241.
- Гемпель К. Г. Мотивы и охватывающие законы в историческом объяснении//Философия и методология истории: Сб. ст./Общ. ред. и вступ. ст. И. С. Кона; пер. с англ., нем., франц. Ю. А. Асеева. М.: Прогресс, 1977. С. 72-93.
- Данто А. Аналитическая философия истории/Пер. с англ. А. Л. Никифорова, О. В. Гавришина. М.: Идея-Пресс, 2002. 289 с.
- Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке//Философия и методология истории: Сб. ст./Общ. ред. и вступ. ст. И. С. Кона; пер. с англ., нем., франц. Ю. А. Асеева. М.: Прогресс, 1977. С. 37-71.
- Кессиди Ф. Х. Философия истории Фукидида. СПб.: Алетейя, 2008. 263 с.
- Л е Гофф Ж. Предисловие//Блок М. Короли-чудотворцы/Пер. и коммент. В. А. Мильчина, предисл. Ж. Ле Гофф, послесл. и науч. ред. А. Я. Гуревич. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 11-57.
- Мизес Л. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции/Пер. с англ. под ред. А. Г. Гряз-новой. М.: Юнити-дана, 2001. 294 с.
- Ортега -и -Гассет Х. Восстание масс//Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс; Дегуманизация искусства: Пер. с исп. М.: АСТ: АСТ-Москва: ООО «Хранитель», 2007. С. 5-209.
- Подоль Р. Я. Теория исторического процесса в русской историософии первой трети XX века. М.: Наука, 2008. 435 с.
- Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы/Пер. с англ. под ред. В. Н. Садовского. М.: Феникс: Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. 525 с.
- Порк А. А. Проблема объяснения в современной немарксистской философии//Философские науки. 1983. № 4. С. 102-110.
- Ракитов А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. М.: Политиздат, 1982. 303 с.
- Р и к ё р П. Память, история, забвение: Пер. с франц. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. 725 с.
- Розов Н. С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены. М.: Логос, 2002. 656 с.
- Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: в поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997. 797 с.
- Сергеев А. М. Свое (внутреннее) и позиция внешнего наблюдателя//Феномен границы: способы его понимания, постижения и изучения: Сб. науч. ст. Мурманск: МГПУ, 2009. С. 39-57.
- Франк С. Л. Смысл жизни//PSYLIB. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/frans02/index.htm
- Фролов Э. Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Изд. 2-е, испр. и доп. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 440 с.
- Хайдеггер М. Наука и осмысление/Пер. с нем. В. В. Бибихина//Новая технократическая волна на Западе: Сб. ст./Сост. и вступ. ст. П. С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 67-84.
- Харитонова М. Е. Связь смысла человеческого существования со смыслом истории. СПб.: ЛГУ им. Пушкина, 2007. 103 с.