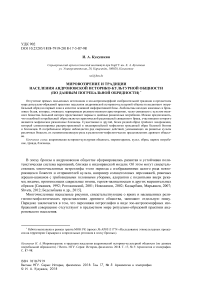Мировоззрение и традиции населения андроновской историко-культурной общности (по данным погребальной обрядности)
Автор: Кукушкин Игорь Алексеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология и антропология Евразии
Статья в выпуске: 5 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Отсутствие прямых письменных источников и зоо-антропоморфной изобразительной традиции в предметном мире ритуально-обрядовой практики населения андроновской историко-культурной общности выдвигают погребальный обряд на первый план в качестве основной информативной базы. Любопытны находки каменных и бронзовых булав, которые, очевидно, маркировали родовую военную аристократию, тесно связанную с культом военного божества. Большой интерес представляют парные и двойные разнополые погребения. Можно предположить, что подобный погребальный обряд является практической реализацией священного брака, участниками которого являются мифические разнополые близнецы. Существовал и другой, более редкий обряд тройного захоронения, который символизировал распространенный в индоевропейской мифологии триединый образ Великой богини и близнецов. В погребальном обряде наблюдается ряд сакральных действий, указывающих на развитые культы различных божеств, их основополагающую роль в религиозно-мифологических представлениях древнего общества.
Андроновская историко-культурная общность, мировоззрение, культ, обряд, парное погребение, триада, близнецы
Короткий адрес: https://sciup.org/147219963
IDR: 147219963 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-5-87-98
Текст научной статьи Мировоззрение и традиции населения андроновской историко-культурной общности (по данным погребальной обрядности)
В эпоху бронзы в андроновском обществе сформировалась развитая и устойчивая политеистическая система верований, близкая к индоиранской модели. Об этом могут свидетельствовать многочисленные петроглифы этого периода с изображениями целого ряда повторяющихся божеств и отправителей культа, например солнцеголовых персонажей, ряженых жрецов-шаманов с грибовидными головными уборами, адорантов с поднятыми вверх руками, видимо, произносящих сакральные гимны, героев-палиценосцев и других выразительных образов [Самашев, 1992; Рогожинский, 2001; Новоженов, 2002; Кадырбаев, Марьяшев, 2007; Shvets, 2012; Бедельбаева и др., 2015].
Многочисленные наскальные рисунки, свидетельствующие о ярких и насыщенных религиозно-мифологических представлениях древнего общества, занимают отдельную нишу. Парадокс заключается в том, что персонажи петроглифов в виде зоо-антропоморфных изображений совершенно отсутствуют в предметном мире ритуально-обрядовой практики анд-роновского населения.
∗ Работа выполнена в рамках гранта МОН РК (проект № АР05131774 «Исследование этнокультурных процессов на территории Сарыарки и сопредельных регионов в эпоху бронзы»).
Кукушкин И. А. Мировоззрение и традиции населения андроновской историко-культурной общности (по данным погребальной обрядности) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 5: Археология и этнография. С. 87–98.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 5: Археология и этнография © И. А. Кукушкин, 2018
Научная новизна исследований заключается в анализе погребального обряда, рассматриваемого через призму близнечного феномена, являющегося ключом к пониманию андронов-ской и, шире, индоиранской религиозно-мифологической системы.
Основной целью работы является исследование традиций и мировоззрения андроновского населения по данным погребального обряда.
Для достижения поставленной цели решались задачи по выявлению атрибутики индоиранских божеств, интерпретации парных и тройных захоронений, социальной ранжирован-ности погребенных, выявлению отправителей культа.
В сложившейся ситуации основную информативную роль играет погребальный обряд, детализация которого указывает на глубокие мифоритуальные традиции, сформировавшиеся в мировоззренческой сфере общества. В то же время до исследователей доходит исключительно невербальная часть обряда в виде тех или иных материальных остатков, а соответственно, все вербальные действия, о которых можно только догадываться, остаются за рамками наших знаний.
Наиболее ранние свидетельства, конкретизирующие отдельные аспекты мировоззренческой сферы древнего общества, появились на заре андроновской эпохи. Большой интерес вызывают находки каменных и бронзовых булав. Большинство экземпляров обнаружено в погребениях более ранней синташтинской культуры, но они встречаются в петровских и раннеалакульских комплексах. Погребальный обряд этих культур характеризуется устойчивыми милитаристическими чертами. В мужских захоронениях присутствует оружие дистанционного и ближнего боя, боевые колесницы или их имитация.
Традиционно погребения эпохи бронзы с навершиями булав рассматриваются как захоронения военных вождей. Изготовленные из мягкого камня булавы нередко имеют довольно хрупкую структуру, что предполагает их использование в рамках социальной ранжированно-сти или ритуальной сферы, возможно, указывая на жреческий статус их обладателей [Нелин, 1995. С. 133].
Идеологической основой населения этого периода становится война, которая вызвала к жизни божество, наделенное ярко выраженными военными функциями. В индоарийской мифологии таким символом войны является Индра, грозное божество ведийского пантеона, основным атрибутом которого считается ваджра – булава.
Черты культа этого божества в наибольшей степени присутствуют в погребениях с на-вершиями булав, наконечниками стрел и давильными камнями для приготовления галлюциногенного напитка [Мельников, 1999. С. 77]. Определенным подтверждением данного предположения стала находка в раннеалакульском могильнике Тундык в Центральном Казахстане (погребение 4, курган 4) округлого бронзового навершия булавы, ножа, наконечников стрел и давильного галечного камня [Кукушкин и др., 2015. С. 136. Рис. 2].
Наряду с бронзовым навершием булавы большой интерес вызывает представительный колчанный набор стрел с индивидуальными характеристиками. Каждый из восьми найденных наконечников имел особую, отличную от других форму. Отсутствие серийных экземпляров предполагает их использование в ритуальных целях при проведении каких-либо обрядовых действий. Символика лука и стрел нередко выступает в качестве одного из наиболее древних атрибутов, связанных с сакральной практикой [Михайлов, 2001. С. 135].
Всего на территории Казахстана зафиксировано 14 каменных и металлических наверший булав, однако в контексте тундыкского захоронения их предназначение приобретает более конкретизированный характер, поскольку дополняется и другим вещевым инвентарем, имеющим сакральную окраску.
Значимость культа бога войны в первой четверти II тыс. до н. э. выразилась в распространении элитных погребений, сопровождающихся булавами. Предметная сакрализация воинской власти была реализована в проведении пышных и сложных погребальных обрядов, наличии богатого инвентаря в могилах вождей-колесничих, куда стали помещать и булавы, что нашло отражение в петровских и раннеалакульских захоронениях родовой военной аристократии.
Видимо, загробный мир, по аналогии c земным, также мыслился в состоянии милитаристического возбуждения, охваченным военными конфликтами и грабительскими набегами, на что определенно указывает погребальный инвентарь, насыщенный разноплановым оружием, а также наличие боевых колесниц.
В петровской и алакульской погребальной практике за редким исключением господствует обряд ингумации. Умершего, как правило, укладывали в скорченном положении на левом боку, головой в западном направлении. Можно считать установленным, что в андроновскую эпоху представления о загробном мире в общественном сознании были весьма развитыми. Умерших обязательно сопровождала керамическая посуда, наполненная едой и напитками, которые необходимы во время сакрального перехода в царство мертвых.
В качестве погребального инвентаря мужчин могли сопровождать уже немногочисленные предметы вооружения, а также редкие бытовые орудия. Другими словами, с умершим помещали те вещи, которыми он владел при жизни и будет ими пользоваться в ином мире. Причем если он был вождем на земле, то оставался им и в царстве мертвых.
Женщин нередко погребали в пышных праздничных одеждах, наличие которых обычно фиксируется по остаткам металлических украшений, нередко плакированных золотой фольгой. Можно констатировать, что чем «богаче» был посмертный набор украшений, тем выше роль женщины в жизни родовой общины и, соответственно, ее последующее место в мире ином.
Живые заботились о мертвых, готовя их к существованию в другой реальности. Высокая или низкая статусность умерших, их место в социальной иерархии, отношение к той или иной половозрастной группе обязательно подчеркивались спецификой погребального обряда, который по основным параметрам не выходил за рамки устоявшихся традиций.
Эти данные свидетельствуют о существенном месте загробного мира в мировоззренческой сфере андроновского общества. Однако он был расположен на значительном расстоянии, на что указывает наличие пищи в захоронениях, предполагающей длительное путешествие (дорогу) и исключающей мгновенный переход в иное состояние.
Большой интерес представляют парные и двойные погребения, в которых захоранивались мужчина и женщина. Предполагается, что такие погребения демонстрируют парный брак, где при патриархальных отношениях доминировал мужчина, а женщина ввиду своего подчиненного положения помещалась в могилу после ритуального умерщвления. На подобные ритуальные жертвоприношения могут указывать исторические и этнографические источники [Кузьмина, 1986. С. 90–91]. В последнее время данные захоронения рассматриваются не только в плане реального, но и в плане ритуального брака, символизирующего божественный близнечный союз [Сотникова, 2012. С. 192].
В парных разнополых погребениях умершие нередко лежат в позе так называемых «объятий», причем, как правило, мужчина на левом, а женщина на правом боку. Можно предположить, что подобный погребальный обряд действительно является практической реализацией священного брака, участниками которого являются разнополые близнецы, близкие по содержанию к Яма-Ями, или Йима-Йимак. Конечно, совершенно не обязательно, что умершие при жизни являлись близнецами. Они просто играют роли этих божеств в данном обряде, проведение которого было необходимо исходя из мировоззренческих потребностей социума.
Количество парных и двойных разнополых захоронений на погребальном поле насчитывает 5–10 %, достигая 15–20 % на отдельных памятниках, но бывает и выше [Сорокин, 1962. С. 34; Ткачев, 2013. С. 89; Рафикова, Савельев, 2015. С. 152]. С учетом парности средневзвешенное количество погребенных составляет 10–20 % от всех условно захороненных на могильнике. Повышенная сложность проведения погребального обряда, связанная с необходимостью обеспечить скорченное положение умерших, соответствующее полу размещение в погребальной камере, придание позы взаимных «объятий», предполагает в большей мере ритуальное значение этой церемонии. Такая интерпретация подтверждается и относительно «богатыми» детскими и подростковыми парными разнополыми погребениями, где возрастная планка не позволяет считать умерших супругами по физиологическим причинам.
Женский сопроводительный инвентарь в виде украшений существенно «богаче» мужского, при котором, кроме керамики, других вещей зачастую нет [Кузьмина, 2008. С. 115, 117], что косвенно также ставит под сомнение абсолютизацию патриархальных отношений в анд-роновском обществе.
В ведийской мифологии Яма-Ями являлись супругами еще во чреве матери. Супружеские отношения связывали египетских близнецов Осириса и Изиду. Вероятно, в ранних близнеч-ных связках супруг гибнет и возрождается, иногда с помощью своей жены. Он, как правило, становится царем мертвых и может интерпретироваться как сезонное божество умирающей и возрождающейся природы, а сама смерть-жизнь отражает смену времен года. Ему не чужды и функции солярного божества. Однако важнейшим фактором является возрастное соотношение близнецов – старший, родившийся первым, и младший, появившийся на свет позднее. Например, в близнечной тематике греческой мифологии раньше рождалась Артемида, которая затем помогала принять роды своего младшего брата-близнеца, солнечного бога Аполлона [Тахо-Годи, 2000. С. 107].
Предполагается, что при помещении в парном погребении женщины на правом боку подразумевалось ее относительное старшинство по отношению к мужчине, положенному на левом боку, который по аналогии с руками человека был слабее и моложе, т. е. младше. Данное соотношение предполагает четкое ритуальное возрастное разграничение в разнополом парном захоронении, причем реальный возраст умерших мог и не учитываться, а важен был сам принцип сакрального действия как предметного овеществления известного мифологического сюжета – смерть и возрождение солнечного божества. На это могут указывать парные захоронения мужчины с ребенком или женщины с ребенком, где пол ребенка чаще всего был противоположным.
Видимо, регулярное воспроизводство в погребальной практике ритуала парных захоронений свидетельствует, что разнополым парным близнецам отводилось существенное место в религиозно-мифологической системе древнего общества. Интересно, что в ритуальном наряде на руках женщин нередко отмечаются браслеты с коническими, спиралевидными окончаниями – «рожками», символически подразумевающими двух тельцов, двух баранов (козлов) или тельца и овна, расположенных по обе стороны «хозяйки». Об этом может свидетельствовать парность браслетов, а на сам ритуальный зоо-орнитоморфный облик женщины, как правило, должен указывать головной убор, имеющий характерные черты того или иного животного, птицы или солярно-астральную символику. Вместе они образуют хорошо узнаваемую сакральную триаду – женщина и близнецы или животные возле мирового дерева, эквивалентом которого выступает женщина [Иванов, 1974. С. 92–93]. Очевидно, женщины играли заметную роль в культовой сфере.
Какие-либо перемены в стандартном расположении умерших могут указывать на социальные подвижки, происходящие в обществе, в частности на передний план может выйти старший близнец мужского пола, означающий завершение эры полного господства материнского права и структурную перестройку социальных отношений. Особенно это становится заметно в тех случаях, когда в парных разнополых погребениях женщину укладывают на левый бок или за спиной мужчины. Вероятно, сочетание на одном погребальном поле различающихся обрядов может свидетельствовать об определенном противоборстве культов, адептами которых выступают заинтересованные социальные группировки.
Определенное место в системе религиозных приоритетов занимали и близнецы одного пола, в частности мужского, как, например, ведийские Ашвины или греческие Диоскуры.
Во многих религиозных политеистических системах древности мужские близнечные божества играли заметную роль. Более всего их культ известен в мифологической традиции индоевропейских народов. Характерны также и представления о двух мифических царях – родоначальниках всего племени, что отмечается в обычаях целого ряда племен, прославляющих одновременно двух царей, двух предводителей племени или рода [Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 776]. Наиболее ярким примером являются два царя в Спарте.
Так, при исследовании могильника Лисаковский I (Северный Казахстан) в одной из погребальных конструкций было выявлено двойное погребение, совершенное в двух грунтовых ямах. В каждой из могил зафиксировано по одному костяку, которые были уложены на левом боку в скорченном положении, головой в западный сектор. Антропологическими опре- делениями установлено, что оба умерших являлись мужчинами 1 [Усманова, 2005. С. 37, 225. Табл. 43].
Двойное погребение умерших одного пола в двух специально подготовленных погребальных камерах, где обычно расположены разнополые костяки, исключает их брачные отношения и заставляет видеть в рассматриваемой ограде близнечное, возможно, ритуальное захоронение. Видимо, двойственное единство близнецов при рождении требовало аналогичного состояния и после смерти, что и нашло отражение в двойных однополых захоронениях.
При выборке погребальных камер в заполнении верхнего слоя каждой из могил зафиксировано по одному сосуду, установленному вверх дном [Там же. С. 37, 95. Рис. 56, 4 , 6 ]. Считается, что поставленные подобным образом сосуды маркировали погребения близнецов [Итина, 1979. С. 16–18].
Вероятно, семантика этого обряда связана с широко распространенными представлениями, согласно которым магической властью над природой, особенно над дождем и вообще над погодой, обладают близнецы. Известно также, что в случае засухи могилы близнецов, наделенных могучей способностью влиять на погоду, поливались водой [Фрэзер, 1980. С. 80; Штернберг, 1936. С. 155–157]. В данном случае, очевидно, перевернутые вверх дном сосуды символизируют выливание жидкости, воды. Возлияние – один из распространенных и естественных по законам симпатической магии способов вызывания дождя, падающего сверху из сосудов или каких-либо вместилищ, которые, по бытовавшим представлениям, находились на небе [Антонова, 1990. С. 237].
Показательно исследованное на могильнике Лисаковский IV (Северный Казахстан) детское захоронение. В ограде 8, было расчищено погребение 3, состоявшее из двух детских черепов, уложенных на левую сторону друг за другом. Возраст умерших, вероятно, мальчиков составлял 4–5 лет. Исходя из одинакового возраста и погребения в одной могильной камере предполагается, что они были братьями-близнецами [Усманова и др., 2006. С. 71–75].
Существовал и другой, более сложный и редкий обряд тройного захоронения, при котором трех умерших помещали в одну погребальную камеру, где, как правило, отмечались три костяка, уложенных в могилу определенным образом. Первым лежал мужской скелет в скорченном положении на левом боку, рядом с ним, на правом боку, в позе, характерной для парных разнополых погребений, – женский, а за его спиной уложен дополнительный мужской костяк на левом боку. Таким образом, захоронение объединяет женщину, занимающую центральное место и двух мужчин, расположенных по бокам. Участниками этой триады могли быть как взрослые, так и дети. Причем женщину отличало исключительное «богатство» погребального инвентаря в виде разнообразных украшений.
Подобные тройные погребения зафиксированы в синташтинских могильниках Каменный Амбар [Епимахов, 2005. С. 36], Синташта, в петровских и алакульских некрополях Нуртай [Ткачев, 2002. С. 162–165], Кулевчи VI [Виноградов, 1984], Алакуль [Сальников, 1952. С. 57], Лисаковский I [Усманова, 2005. С. 40–42], Ермак IV [Сотникова, 2012. С. 187–189]. Отмечается некая статусная ранжированность умерших, фиксируемая как в расположении, так и в сопровождающем инвентаре. Безусловно, в этом обряде женщина играла основную роль, за ней следовал первый умерший, расположенный к ней лицом, которому отдавалось предпочтение, и замыкал ряд мужской костяк за спиной женщины, указывавший на незначительную роль последнего.
Аналогичным образом могли размещать и жертвенных лошадей, запряженных в символическую повозку. Из двух лошадей, уложенных вплотную друг к другу, создавали разнополую пару (кобыла и жеребец) 2, которую размещали на поверхности вдоль длинной стороны могильной ямы, а на противоположном краю камеры дополнительно укладывали еще одну лошадь. Данный ритуал зафиксирован, например, в раннеандроновских курганах на могильнике Ащису в Центральном Казахстане. Разнополость жертвенных пар лошадей отмечается в синташтинских и петровских погребальных комплексах [Гайдученко, 2011. С. 52–53]. Видимо, в более древней доведийской мифологии парная запряжка была представлена разнопо- лыми особями. На это могут указывать петроглифы с изображением так называемых «чудесных» упряжек, в которых отражаются не только разнополость животных, но и относительное разнообразие их видов [Шер, 1980. С. 283, 284].
Тройные захоронения символизировали широко распространенный в индоевропейской мифологии триединый образ богини и двух близнецов, очевидно, старшего и младшего. В разных случаях, вероятно, связанных с социально-экономическими процессами, протекающими в обществе, богиня могла занимать место матери близнецов, сестры или даже жены, а символика «дрейфовать» от лунной к солнечной. Эта триада может принимать самые неожиданные и, на первый взгляд, трудно совместимые изобразительные формы, используемые в передаче триединой сущности этого божества – Великой богини и близнецов [Кукушкин, 2007. С. 135–140].
Известны светлая и темная стороны триады, например, в виде женщины и двух птиц или коней (хозяйка коней) либо в образе фантастического существа с хтоническими чертами, имеющего одно туловище и три головы. Аналогичные метаморфозы могли происходить и при зоо-орнитоморфном изображении близнецов, где например, одно туловище могло иметь две головы или два туловища – одну голову [Зданович, Куприянова, 2010. С. 147. Рис. 8; Сарианиди, 2001. С. 140. Табл. 5, 1 ].
Обряд тройного захоронения зафиксирован в могильниках федоровской культуры Южной и Западной Сибири, например в Кытманово [Уманский и др., 2007. С. 15. Рис. 30], Фирсо-во XIV [Кирюшин и др., 2015б. Рис. 6, 1 – 3 ], Сухое Озеро I [Максименков, 1978. С. 23]. При этом в данных погребениях женский костяк лежал на левом боку лицом к мужскому, расположенному на правом боку, а за спиной женщины на левом боку находился еще один костяк мужского пола. Подобное расположение умерших в могиле фактически повторяет с точностью до наоборот алакульские погребальные каноны и служит своеобразным индикатором процессов внутренних трансформаций в социальной структуре федоровского общества.
Многочисленные некрополи федоровской культуры в плане погребального инвентаря менее информативны. При трупоположении умерший, как и в алакульской традиции, укладывался в скорченном положении на левом боку, головой в западном направлении. Какие-либо предметы погребального инвентаря, за исключением керамики, в мужских захоронениях встречались крайне редко. В женских погребениях сопроводительный инвентарь в виде бронзовых украшений, нередко плакированных золотым листом, сравнительно более представительный.
В некрополях федоровской культуры парные разнополые погребения могут составлять от 2 [Кузьмина, 1986. С. 90] до 25 % [Уманский и др., 2007. С. 25]. Умершие традиционно размещены лицом друг к другу, но в большинстве случаев женщина уложена на левом, а мужчина – на правом боку [Ткачева, Ткачев, 2008. С. 243]. Известны захоронения, где женский костяк расположен за спиной мужского [Максименков, 1978. С. 60], который соответственно «рождается» первым. Возможно, наблюдается смещение акцентов с младшего близнеца на старшего, что предполагает повышение социального статуса мужчины, если не до лидирующего, то, по крайней мере, до равного. Интересно, что маркировкой половой принадлежности, видимо, мог выступать и погребальный костюм. Так, в целом ряде высокостатусных захоронений зафиксированы мужские костяки в сопровождении типичных женских украшений, представленных височными кольцами, браслетами, нашивными бляшками и золотыми серьгами с раструбом 3 [Уманский и др., 2007. С. 9–10; Кирюшин и др., 2015а. С. 10– 11, 13–14; Кукушкин, Дмитриев, 2016. С. 146]. Очевидно, наблюдался процесс проникновения определенной элитной части представителей мужского пола в жреческую среду, которая традиционно считалась женской. Вытеснение женского божества предполагает определенную победу «мужского права» в культовой сфере, а следовательно, и в области социальных отношений, что подтверждается и изменением месторасположения костяков в парных погребениях.
В этой связи отметим женоподобных мужчин-энареев, относящихся к царскому дому и выполнявших у скифов жреческие функции. Они составляли обособленную привилегированную касту, закрытую для других слоев общества [Хазанов, 1975. С. 168–169]. Устоявшиеся традиции этого института указывают на более ранний период его формирования, очевидно, связанный с бронзовым веком.
Видимо, смена приоритетов в культовой сфере проходила без резких и кардинальных преобразований, на что может указывать преобладание левосторонних захоронений. В период финальной бронзы переход к правосторонним погребениям фактически завершился. Они стали обрядово-нормативным каноном, преобладающим в погребальной практике.
Проведение различного рода обрядово-культовых действий невозможно без специально подготовленных людей, обладающих сакральными знаниями, – отправителей или служителей культа. Например, жречество в период Ригведы являлось уже сформировавшимся и разветвленным институтом [Елизаренкова, 1989. С. 453]. Жрецы руководили организацией и устройством всего комплекса мероприятий погребального характера, следили за соблюдением норм традиционного права и являлись хранителями сложившихся обычаев и ритуалов, без которых невозможно посмертное восстановление социального статуса умершего, а значит, и продолжение бесконечного движения по «кругу жизни». Однако унификация погребального обряда делает достоверное выявление на некрополе подобных захоронений весьма затруднительным [Усманова, 2005. С. 103]. В то же время отмечается определенный круг погребений, которые можно отнести к категории, имеющей особый социальный статус, прежде всего женских.
К этому ограниченному кругу лиц можно отнести женщин, захороненных в парных погребениях, снабженных ярко выраженной ритуально-культовой атрибутикой, представленной сакральными украшениями. Найденные женские украшения не производят впечатления утилитарной, бытовой гарнитуры, предназначенной для повседневного пользования. Отсутствие царапин, следов потертости, сколов, неизбежных при длительной эксплуатации, свидетельствуют, что данными наборами очень дорожили и пользовались ими редко.
На основании мифологичности погребальной обрядности, воспроизводимой в ритуале, можно предположить, что андроновский пантеон состоял из целого ряда известных индоиранских богов. Например, Индра вычленяется благодаря характерным признакам, как, например, булава-ваджра, и общему милитаристическому содержанию погребального инвентаря. Разнополые парные захоронения характеризуют божественных близнецов, причем в связке Яма-Ями – Йима-Йимак на фоне бледного женского мужской персонаж выглядит более яркой и самостоятельной фигурой. Они, видимо, стоят ближе к федоровской традиции. Для алакульцев, вероятно, характерны более ранние формы близнечного союза. Однополые парные мужские захоронения свидетельствуют о близнечных Ашвинах. Тройные погребения ассоциируются с триадой – Великой богиней и близнецами, символикой которых в мифологической традиции является трехколесная повозка и триединство в целом.
Таким образом, в андроновской погребальной обрядности наблюдается целый ряд ритуальных действий, указывающих на развитые культы различных божеств, играющих основополагающую роль в религиозно-мифологических представлениях древнего населения. Однако следует учитывать, что политеизм древности – это не статичная, «окаменевшая» структура, а динамично изменяющаяся мировоззренческая система, наглядно демонстрирующая последовательные этапы социально-экономического развития общества.
Список литературы Мировоззрение и традиции населения андроновской историко-культурной общности (по данным погребальной обрядности)
- Антонова Е. В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. М.: Наука, 1990. 288 с.
- Бедельбаева М. В., Новоженов В. А., Новоженова Н. В. Изобразительные памятники Казахского мелкосопочника. Караганда: САИ при КарГУ, 2015. 252 с.
- Виноградов Н. Б. Кулевчи VI -новый алакульский могильник в лесостепях Южного Зауралья//СА. 1984. № 3. С. 136-153.
- Гайдученко Л. Л. Лошадь в погребальных памятниках эпохи бронзы и раннего металла из степной зоны Казахстана и Южного Зауралья//Маргулановские чтения -2011. Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2011. С. 52-54.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси: Изд-во Тбилис. гос. ун-та, 1984. 1409 с.
- Елизаренкова Т. Я. «Ригведа» -великое начало индийской литературы и культуры//Ригведа. Мандалы I-IV. М.: Наука, 1989. С. 426-762.
- Епимахов А. В. Ранние комплексные общества севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Челябинск: ОАО «Челябинский дом печати», 2005. Кн. 1. 192 с.
- Зданович Д. Г., Куприянова Е. В. Лошади и близнецы: к «археологии ритуала» Центральной Евразии эпохи бронзы//Аркаим -Синташта: древнее наследие Южного Урала. Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2010. Ч. 1. С. 130-161.
- Иванов В. В. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от asva -«конь» (жертвоприношение коня и дерево asvattina в Древней Индии)//Проблемы истории языков и культуры народов Индии. М.: Наука, 1974. С. 75-138.
- Итина М. А. Реконструкция некоторых первобытных обрядов методом аналогий//Этнография и археология Средней Азии. М.: Наука, 1979. С. 15-19.
- Кадырбаев М. К., Марьяшев А. Н. Петроглифы хребта Каратау. Алматы: Наука, 2007. 147 с.
- Кирюшин Ю. Ф., Папин Д. В., Тур С. С., Пилипенко А. С., Федорук А. С., Федорук О. А., Фролов Я. В. Погребальный обряд древнего населения Барнаульского Приобья: материалы из раскопок 2010-2011 гг. грунтового могильника Фирсово XIV. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015а. 208 с.
- Кирюшин Ю. Ф., Папин Д. В., Федорук О. А. Андроновская культура на Алтае (по материалам погребальных комплексов). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015б. 108 с.
- Кузьмина Е. Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1986. 134 с.
- Кузьмина Е. Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности: монография. Актобе: ПринтА, 2008. 358 с.
- Кукушкин И. А. Мировоззренческие аспекты культуры населения финальной бронзы Центрального Казахстана//Историко-культурное наследие Сарыарки. Караганда: ИП Е. А. Сытин, 2007. С. 133-150.
- Кукушкин И. А., Дмитриев Е. А., Кукушкин А. И. Могильник Тундык: предварительные результаты исследований//Этнические взаимодействия на Южном Урале. Челябинск: ЧГКМ, 2015. С. 136-143.
- Кукушкин И. А., Дмитриев Е. А. Полевые исследования на могильнике Бесоба (Казахстан)//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. Вып. 22. С. 142-147.
- Максименков Г. А. Андроновская культура на Енисее. Л.: Наука, 1978. 190 с.
- Мельников Е. Н. Погребения с навершиями булав эпохи бронзы//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий. Липецк: Изд-во ЛГПУ, 1999. С. 77-80.
- Михайлов Ю. И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха бронзы). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 363 с.
- Нелин Д. В. Погребения эпохи бронзы с булавами в Южном Зауралье и Северном Казахстане//Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Челябинск, 1995. Ч. 5, кн. 1. С. 132-136.
- Новоженов В. А. Петроглифы Сары Арки. Алматы: ИА НАН РК, 2002. 125 с.
- Рафикова Я. В., Савельев Н. С. Парные погребения могильника эпохи поздней бронзы Ташла-1 в Башкирском Зауралье//Этнические взаимодействия на Южном Урале. Челябинск: ЧГКМ, 2015. С. 151-159.
- Рогожинский А. Е. Изобразительный ряд петроглифов эпохи бронзы святилища Тамгалы//История и археология Семиречья. Алматы: Фонд «Родничок»; Фонд «XXI век», 2001. Вып. 2. С. 7-44.
- Сальников К. В. Курганы наоз. Алакуль//МИА. 1952. № 24. С. 51-71.
- Самашев З. С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. Алма-Ата: Гылым, 1992. 288 с.
- Сарианиди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. М.: Worldmedia, 2001. 246 с.
- Сорокин В. С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казахстане. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 206 с.
- Сотникова С. В. К вопросу о парных разнополых погребениях андроновской эпохи//VIII Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск: Амфора, 2012. С. 187-193.
- Тахо-Годи А. А. Артемида//Мифы народов мира. М.: Олимп, 2000. Т. 1. С. 107-108.
- Ткачев А. А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2002. Ч. 1. 289 с.
- Ткачев А. А. Мужской вещевой комплекс и возможности реконструкции костюма андроновской эпохи//Археологические исследования степной Евразии. Караганда: TENGRI Ltd, 2013. С. 89-93.
- Ткачева Н. А., Ткачев А. А. Эпоха бронзы Верхнего Прииртышья. Новосибирск: Наука, 2008. 304 с.
- Уманский А. П., Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П. Погребальный обряд населения андроновской культуры Причумышья (по материалам могильника Кытманово). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. 132 с.
- Усманова Э. Р. Могильник Лисаковский I: факты и параллели. Караганда; Лисаковск: TENGRI Ltd, 2005. 232 с.
- Усманова Э. Р., Мерц В. К., Колбина А. В., Вентреска А. О некоторых сюжетах в «тексте» погребального обряда эпохи бронзы//Изучение памятников археологии павлодарского Прииртышья. Павлодар: НПФ «ЭКО», 2006. С. 70-80.
- Фрэзер Д. Д. «Золотая ветвь». М.: Политиздат, 1980. 831 с.
- Хазанов А. М. Социальная история скифов. М.: Наука, 1975. 343 с.
- Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука, 1980. 328 с.
- Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л.: Изд-во Ин-та народов Севера, 1936. 573 с.
- Shvets I. Studien zur felsbildkunst Kasachstans//Materialien zu Kasachstan Archäologie. Darmstadt; Mainz: Philipp von Zabern, 2012. Bd. 1. 267 S.