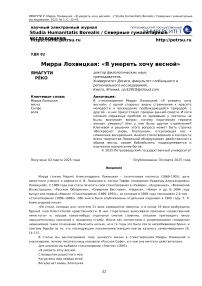Мирра Лохвицкая: «Я умереть хочу весной»
Автор: Ямагути Р.
Журнал: Studia Humanitatis Borealis @studhbor
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 (34), 2025 года.
Бесплатный доступ
В стихотворении Мирры Лохвицкой «Я умереть хочу весной», с одной стороны, видно стремление к красоте молодости и восхищение пробуждающейся природой, с другой - в них присутствует призрак ранней смерти. И хотя никаких серьезных проблем со здоровьем у поэтессы не было, возникает вопрос: почему лирическая героиня желает умереть? Или у нее было другое стремление? Ключевой в решении этого вопроса может быть строчка «Воскреснет вновь, благоухая», отсылающая нас к символике воскресения. Анализ стихотворения в контексте всего творчества Лохвицкой обнаруживает двойственность образа весны: кроме библейского, подразумевается и языческое воскресение богов.
Мирра лохвцкая, весна, сапфо, воля
Короткий адрес: https://sciup.org/147247780
IDR: 147247780 | УДК: 82
Текст научной статьи Мирра Лохвицкая: «Я умереть хочу весной»
иhсtсtpлsе:д//
Мирра (также Мария) Александровна Лохвицкая – талантливая поэтесса (1869–1905), дочь известного ученого и адвоката А. В. Лохвицкого, сестра Тэффи (псевдоним Надежды Александровны Лохвицкой). С]1889ггода онассталагпечататьссвоисстихотворенияЕв< «Севере», < «Художнике», < «Всемирной Иллюстрации», «Русском Обозрении», «Северном Вестнике», «Неделе», «Ниве» и др. В 1896 году выпустила первый сборник «Стихотворения (1889–1895)», за которым в 1898 году последовал 2-й том – «Стихотворения (1896–1898)». Обе книги были опубликованы отдельным изданием в 1900 году. Т. Л. Александрова пишет:
«Ее стихи, которые для читателя 21 века совершенно невинны, а в конце 19 века возбуждали бурный гнев блюстителей нравственности. В них старательно выискивали признаки «нравственной нечистоты» и, выудив какое-нибудь отдельное смелое словечко, спешили пригвоздить юную нарушительницу приличий к позорному столбу. Иначе как ханжеством и укоренившимся гендерным шовинизмом такое отношение объяснить нельзя, но в те годы это была почти непробиваемая броня, и поэтому борьба за то, что последующим поколениями женщин-поэтов казалось самоочевидным» [8: 14–15].
В статье мы рассматриваем тему ценности жизни в стихотворениях Мирры Лохвицкой и анализируем, почему писательницу называли «Русская Сафо», и о чем она мечтала действительно.
Для анализа мы выбрали стихотворение «Элегия» (1893):
«Я умереть хочу весной,
С возвратом радостного мая,
Когда весь мир передо мной
Воскреснет вновь, благоухая.
На всё, что в жизни я люблю,
Взглянув тогда с улыбкой ясной,
Я смерть свою благословлю -
И назову ее прекрасной» [8: 135].
« Когда весь мир передо мною, Воскреснет вновь, благоухая » – эти строчки выражают, как автор была впечатлена силой природой. Прежде всего, здесь заметно стремление к красоте молодости и восхищение весной. Но возникает вопрос: почему Мирра написала, что хочет умереть именно весной? Разве действительно она хотела умереть? Или у нее было другое стремление?
Здесь следует обратить внимание на строчку « Воскреснет вновь, благоухая ». Если бы лирическая героиня хотела умереть, и у нее не было бы надежды будущей жизни, то она хотела бы умереть зимой, потому что зима – сезон смерти, тьма. Вся природа засыпает зимой, словно умирает. Но героиня выражает желание завершить жизнь именно весной, когда мир сверкает лучами солнца и воскресает вновь после тьмы. Одновременно она подчеркивает тему воскресения, к которой обращается не раз. Приведем для примера стихотворение «Весна» (1889):
«То не дева-краса от глубокого сна
Поцелуем любви пробудилась.
То проснулась она – молодая весна,
И улыбкой земля озарилась.
Словно эхо прошло, – прозвучала волна,
По широким полям прокатилась:
«К нам вернулась она, молодая весна,
Молодая весна возвратилась!»
Смело вдаль я гляжу, упованьем полна, –
Тихим счастием жизнь осветилась.
Это снова она, молодая весна,
Молодая весна возвратилась!»[8: 65].
Весна здесь представлена молодой девой, словно богиня красоты Венера. Она проснулась и улыбается, как будто отсылая к картине «Рождение Венеры» Боттичелли. Венера была одной их богинь языческой горы Олимп, она отождествляется с Афродитой, родившейся из морской пены, которая появилась от упавшего в воду мужского органа небесного бога Урана. Люди, которые хотят умереть молодыми, часто относятся к жизни с акцентом на молодость и жизненную половую энергию. С другой стороны, автор сильно хотела сохранить свою красоту и девственность, чистоту, как будто она боялась потерять что-то важное. Но из стихотворения «Мрак и свет» (1890) мы узнаем, чего она боялась.
«Минула ночь… На берегу крутом
Очнулась я; тоска меня давила.
Возможно ль жить!.. А после… а потом?
Не лучше ли холодная могила?..
Не лучше ли на дне глубоком спать,
Не чувствовать, не думать, не желать,
От бед земных, отчаянья, сомнения,
Там вечное найти успокоение?» [8: 82].
Героиня сильно боялась «уничтожения», хотя никаких серьезных проблем со здоровьем у нее не было. Поэтому она так повторяла: « Это снова она, молодая весна, Молодая весна возвратилась !». Тогда что именно ее так напугало? Т. Л. Александрова пишет о происхождении псевдонима поэтессы. «Мирра» – так в детстве ее старший брат неверно перевел романс «Mira la bianca luna» (« Смотри, вот бледная луна »). Это «имя-благовоние, отзывающееся библейским и античным колоритом, стало частью ее поэтической сущности. Может быть, оно указывало и на официально не афишируемые еврейские корни (отсюда – ччувство собственной “неправильности”,ннекоейгтяготящейгтайны)» [8:39–110].ГТаким]образом в творчестве Мирры Лохвицкой образ весны связан и с темой воскресения античных богов, и с темой библейского воскресения.
Обратимся к теме любви девы стихотворениях поэтессы. Здесь важно вспомнить образ русалки в русском фольклоре. Русалка – гперсонажввосточнославянской£демонологии Vиссвязанныйппоссвоем происхождению с душами умерших. В Полесье преобладают представления о происхождении русалки из душ девушек, умерших до замужества, особенно тех, что умерли просватанными накануне свадьбы [1: 497]. В северных и северо-западных районах записывались истории о русалке, которая влюбилась в моряка и сильно тосковала по нему, когда он уехал. Родившегося от этой связи ребенка она разорвала надвое и бросила в море. В этом сюжете можно усматривать связь с коми-пермяцкими поверьями о «лесной девке» [1: 499]. Образ русалки отличается у разных народов и зависит от локальных верований. В Псковской области словом русалка называли демоническую женщину, сидящую во ржи, способную защекотать человека; озерную деву с длинными волосами и рыбьим хвостом; женское существо, расчесывающее свои волосы, сидя на прибрежном камне [1: 496]. На Украине, Белоруссии и южнорусских землях (юго-западный тип) образ этого персонажа в одной и той же местности может описываться как молодые красивые девушки, обнаженные или в белых одеждах; как девушки-покойницы, похороненные в свадебном наряде (в венках, с фатой на голове) [1: 496]. Они мстят неверным любовникам, из-за которых они утопились; ищут любви земного юноши, обещая ему несметные богатства [2: 416–417]. Смерть до замужества считалась грехом в народном веровании. Д. К. Зеленин написал, что русалки – нечисты, они относятся к «нечисти», к представителям нечистой силы, – этот взгляд проходит красною нитью во всех народных сказаниях о русалках, равно как и ярко сквозит во всех русальных обрядах [5: 207].
Можно сказать, что нечистая ранняя смерть девушки в русском фольклоре в качестве греха связывается со смертью весной в произведениях Мирры Лохвицкой.
Мирру называли «русской Сапфо». Отметим исследование Холт Н. Паркер о Сапфо, где она представлена как учитель: «…поэтесса по-прежнему остается старшей по возрасту женщиной, облеченной властью над некой обучающей институцией для девушек добрачного возраста, но только теперь она делает это в ритуальном контексте» [11: 32].
Здесь автор пишет, что Сапфо, смешиваясь с девами, являлась главным членом из добрачных дев, как учительница, сохраняя свой статус и знания мудрости взрослой женщины, учила девушек, как привлечь мужчин. Холт Н. Паркер пишет: «Тогда же была снова актуализирована идея о том, что Сапфо играла роль наставницы в сексе, и опять это рассматривалось сквозь призму ритуала». Шмид, Штелин [24: 421] и Меркельбах [10: 4] смутно упоминают об «обучении и подготовке к браку». Другие примеры курсов по «сексуальному воспитанию» в школе Сапфо можно найти в процитированном выше замечании Эвы Кантареллы [7: 89] об «обольщении, красоте и привлекательности». Хэллетт в одной своей наблюдательной статье оказалась одной из немногих, кто серьезно стал размышлять по поводу возможного ритуального предназначения эротизма Сапфо:
«Я, однако, не могу согласиться с ее представлением о Сапфо как о “воспитателе чувственности”[23: 460], ибо оно берет начало в предположении о том, что кружок Сапфо состоял из девушек, обучавшихся там до замужества, и что свою любовную поэзию она сочиняла исключительно для них. Более того, я не вижу никаких доказательств тому, что отцы или мужья стремились воспитать в своих дочерях или женах чувственность. В греческом обществе женская сексуальность скорее подавлялась, нежели поощрялась. Жена, которая слишком любит секс, – потенциальная прелюбодейка, а вовсе не ценное приобретение» [11: 44 ].
По мнению Паркера, Сапфо являлась хорошей руководительницей добрачных дев, и у нее не было цели нарушить чистоту дев. В произведениях Мирры очень важную роль играет девственная чистота. И «чистота» всегда появляется в русском свадебном фольклоре как «воля» невесты или «красота» невесты. В русском свадебном обряде «обряд прощания с девьей красотой» играл самую важную роль. Обряд прощания с девьей красотой (волей) – это ритуальное расставание невесты с девичьей вольной жизнью, понятие о которой в русской свадьбе и свадебной поэзии издавна было связано с набором предметов-символов [3: 125]. Когда невеста прощается с волей, воля улетает птицей в далекую сторону. Отпускать волю – означает отпускать существо со способностью своей магической силой причинять вред. До свадьбы обряды для девушек имели целью поднять свое очарование, чтобы найти хорошего мужа. Но Л. И. Иванова пишет:
«Считалось, что после свадьбы слишком большая лемби (то есть славутность на русском языке) и не нужна. Сохранились примеры описания обрядов, когда замужним женщинам, которые были неверны своим мужьям, даже “роняли” (sorrettih) лемби. Основными локусами проведения таких ритуалов были глухие ламбы, откуда ничего не вытекает и куда ничего не втекает, большие неподвижные камни и кладбище. По народным представлениям, именно слишком пылкая и высокая лемби была причиной супружеских измен. Здесь можно говорить, что такая излишняя лемби в пору замужества трактовалась как некое болезненное сексуальное влечение» [6: 71–72].
Это признает молодую девственную красоту как высшую ценность в свадебном фольклоре. Наша гипотеза состоит в том, что обряд «расставание с волей» тесно связан с происхождением русалки. Русалка не смогла расстаться со своей волей из-за смерти перед свадьбой. То есть она не перешла судьбоносную границу и хранит в себе слишком сильную силу, особенно над любовником.
В семейной жизни Мирра была хорошей матерью, отчего трудно сказать, что она мучилась из-за своей любовной страсти. Далее посмотрим с другой точки зрения на «красоту» женщин:
«– Я люблю красоту! – декламировала она. – И я хочу воспитывать моего ребенка в красоте». «Звали даму Алевтина Павловна. Но как-то раз она сказала нам:
– Зовите меня, пожалуйста, Ниной. Я обожаю Тургенева»[22]
Это строчки из повести «Домовой» Тэффи (сестра Мирры) из сборника рассказов «Ведьма», опубликованного в 1936 году в Париже. Тэффи (псевдоним Надежды Александровны Лохвицкой, в замужестве – Бучинской) являлась младшей сестрой поэтессы. Она комично изображала наряженную женщину, которую зовут Алевтина Павловна. Читатель сразу понимает, что героиня влюблена. Это трагедия женщины, живущей в любви после свадьбы. Детей всегда приносят в жертву из-за родителей. Автор критиковала тщеславие Алевтины. Это означает, что у автора было чувство морали, и она выражала свою мораль с точки зрения русского демонического духа домового.
Ю. В. Попкова пишет в своей статье «Женские образы в юмористических рассказах Н. А. Тэффи»: «Тэффи, преемница Чехова в жанре юмористического рассказа, сумела в живой и юмористической манере обрисовывать широчайшую панораму различных типов личностей и характеров персонажей» [12: 50]. Как известно, Нина – героиня Чехова. А почему Тэффи нарочно предложила вспомнить о героине Тургенева?
Посмотрим типичный образ роковой женщины у Тургенева, Г. Щукин пишет так:
«У гётевской Лотты и у многих тургеневских героинь темные глаза (сноска Щукина: «У Аси черные глаза, у Зинаиды Засекиной – темно-серые, у Джеммы (“Вешние воды”) – тоже темно-серые. Заметим, что огромные карие глаза навыкате – единственная черта Полины Виардо, которой восхищались все, кто знал знаменитую певицу»), контрастирующие с безмятежной белизною платья. Оба художника слова в данном случае следуют старой культурной традиции, которая связывала белизну костюма с чистотой и невинностью девушки, а черноту глаз – со страстностью. Сочетание темных глаз и белого платья создавало идеальные “портретные данные” девственной героини, которой суждено было познать сладость и муки любовной страсти» [25: 271].
Такой контраст (черно-белый тон) нам упоминает образ, который Аполлон Майков написал о виллисах:
Утро (Предание о виллисах) «Близко, близко солнце!
Понеслись навстречу
Грядки золотые Облачков летучих, Встрепенулись птицы, Заструились воды; Из ущелий чёрных Вылетели тени – Белые невесты: Широко в полёте Веют их одежды, Головы и тело Дымкою покрыты, Только обозначен В них лучом румяным Очерк лиц и груди» [9: 146].
Про белую одежду русалки Д. К. Зеленин писал так:
«Равным образом белая блестящая одежда, блеска которой не выносит человеческое око, – эта черта вполне подходяща для полудницы, которая имеет какую-то связь с полуденным солнцем; Полудница, согласно всем почти свидетельствам о ней, одета во все белое и, по некоторым свидетельствам, даже не выносит черного цвета [5: 224].
А впервые появился образ русалки в стихотворении Мирры так:
«Ни речи живые, ни огненный взгляд В ней душу его не пленяли, Но косы, но русые косы до пят
Расстаться с русалкой мешали.
Напрасно он бился в коварных сетях,
Напрасно к сопернице рвался, Запутался в чудных ее волосах И с нею навеки остался» [8: 73].
Здесь не описана белая блестящая одежда русалки, которая ослепляет героя, а вместо этого она подчеркнула ее волосы, которые мучат героя. Как будто Мирра предложила любовную страсть, способную разрушить жизнь, вместо чистоты девы.
Эталонный образ роковых женщин в русской литературе – это как будто призрак добрачной девы, так же, как русалка. Как будто реагируя на эту идею, Тэффи в рассказе «Домовой» выражала такой же черно-белый контраст комично и живо: идеальный белый тон для нее – угрызения совести матери, а не чистота девушки, хотя мрачный черный тон тоже означает муку любовной страсти.
Финская исследовательница Ирма-Риита Ярвинен, исследуя очарование женщин, пишет так: «Драматический черно-белый (злой и добрый) контраст характерен и типичен для легенды о мучениках. Блудная жизнь героини и сильное угрызения совести о новой жизни представляют собой конфликт между легендой о признающих([13][14][15][16])» [27: 192–193]. Например, Мария Египетская, Мария Магдалина, Пелагия Антиохийская (которая отличалась необыкновенной красотой, до обращения ко Христу вела легкомысленный и распущенный образ жизни; была танцовщицей и блудницей) и Феодора Александрийская. Ярвинен пишет, что одним из женских грехов является сексуальное влечение, а другим – тщеславие. Церковь неоднократно осуждала женское тщеславие. Сексуальное влечение является скорее центральной проблемой, и сексуальностью святые мужчины и святые женщины четко различаются. В общей сложности 42 % (64/151) святых женщин впали в конфликт и трудности из-за проблем сексуальности, а только 19 % (137/713) среди мужчин [27: 197]. Ирма-Риита Ярвинен сделала такой вывод: «В золотой легенде святая определяется либо как девственница, либо как вдова» [27: 199]. Если считается, что средневековая женщина обладала бы сверхъестественной способностью избегать, это было двумя способами. То есть это означает два заключения: она ведьма или она святая [27: 199]. В средневековом европейском обществе женщины были подчинены физически и социально, поэтому у них не было другого выбора, кроме магии или помощи ведьм; «это история о выборе женщины-святой раскаяния во второй половине ее жизни» [27: 199–200].
Таким образом, повесть «Домовой» Тэффи очень похожа на сюжет легенды о раскаявшейся. По мнению Ярвинена «раскаяние» –это единственная возможность выбора падших женщин. Через моральную тему произведения Тэффи подчеркнула жизнелюбие женщины. Ведь Алевтина нашла себе новую другую жизнь как хорошая мать.
В отличие от произведений сестры, стихотворения Мирры полны мечты о мимолетной свободе. Т. Л. Александрова пишет о строгом образовании, которое сестры получили, и цитирует слова Мирры:
«Мне не дают воли! – говорила она. – Ну и развернусь же я потом. Каждою порою жить буду вовсю. Я за все эти годы возьму своё…У меня в сутках сорок восемь часов окажется…» [8: 16]; «Этот наивно-институтский взгляд на жизнь, со стремлением сбросить оковы жесткой дисциплины, вырваться на волю, встретить любовь, понимаемую как высшее счастье, вполне выразился в ранних стихах Лохвицкой» [8: 9].
Вернемся к понятию «красота» невесты в русском фольклоре. В статье «Концепты “воли” и “тоски” в русской свадебной лирике» мы анализировали сходство между тоской в лечебных и любовных заговорах и красотой невесты свадебных причитаниях [26]. Если обратимся к любовным заговорам, то увидим много общего в способах снятия тоски в них и снятия красоты в свадебной лирике. Способы удаления красоты в свадебных причитаниях очень похожи на напускание тоски в любовных заговорах:
«Ой, не брошу-то я свою девью красоту,
Ой, не брошу-то я свою девью красоту
Да не в огонь-то и во не пламеню
Не в (З)дунай-то ли реку быструю,
Не в (З)дунай воду холодную.
О(т)пущу-то ли свою красоту
По застольно-то куть, по лавочке
Ко родимой своей сестрице,
Ко родимой-то голубушке» [18: 129].
Отметим следующее выражение в приведенном причитании: «не в огонь-то, Lи вонегпламеню, Не в (З)дунай-то ли реку быструю…а к родимой сестрице, к родимой голубушке». Похожее выражение есть в любовных заговорах:
«...Понесите [тоску] через море и через реки, и через потоки, и через почины, и через горы, и через долы, и через темные леса, и нигде ее не уроните, и донесите до рабы божии Анны, и зажгите у нее 70 жил и 70 суставов...» [19: 103], [20: 181]; «Отошлю тоску тоскливую, кручинушку тяжелую за темные леса, за синие моря, за высокие горы, за тянучие болота, за везучие грязи. И сейчас пойдите, живите, мои слова, за темными лесами, за синими морями, за высокими горами, за тянучими болотами, за вязучими грязями» [17: 342].
В свадебных причитаниях красота, олицетворяющая девичью волю, сначала является предметом, например, лентой, потом она улетает за горы, реки, леса, как птица. То есть воля сначала является неодушевленной, а потом превращается в живое существо. А в лечебных заговорах тоска всегда является неким предметом:
(Выйти на реку, встать против течения и сказать)
«Куда вода, туда тоска.
По ветру пришла –
На ветер иди,
От людей пришла –
На люди иди. С добром пришла –
С добром уйди.
От рабы Божьей... (имярек)» [21: 133].
В данных текстах заговоров тоска будто грязь, которую можно снять, чтобы избавиться от опасного состояния. Однако когда человек хочет навредить кому-то, он использует в заговорах более вредоносного одушевленныого персонажа, а ннегпросто предмет. В русском фольклоресодушевленное существо имеет магическое воздействие на живую природу. То есть «воля» невесты являлась очень сильной «душой». Может быть, это и была вольная жизненная сила, которая очаровывала Мирру:
Песнь любви (1889)
«Где ты, гордость моя, где ты, воля моя?
От лобзаний твоих обессилела я...
Столько тайн и чудес открывается в них,
Столько нового счастья в объятьях твоих!
Я бесстрастна была, безучастна была,
И мой царский венец ты похитил с чела.
Но сжимай, обнимай – горячей и сильней,
И царица рабынею станет твоей.
Ты был кроток и зол, ты был нежно-жесток,
Очарованным сном усыпил и увлек,
Чтоб во сне, как в огне, замирать и гореть,
Умирая, ласкать и от ласк умереть!» [8: 270].
Здесь «воля» является мужским родом, как будто любовник царицы. А строчки ««Чтоб во сне, как в огне, замирать и гореть, Умирая, ласкать и от ласк умереть!» – упоминают тоску в любовных заговорах. Сравните, как А. Л. Топорков цитирует: «2–я рече: имя мне Огния кипучая, как в печи смольнима дровами сжгу человека. 3-я рече: имя мне Недра, знобит человека, не может он и в печи согретися»[4: 206, №44; старая рукопись : «Список о трясавцах»][20: 36]. Здесь как будто любовник напускал тоску в тело царицы, и она сама трансформировалась тоской. А. Л. Топорков пишет:
«Тоска проявляется в заговорах как тревога, подавленность, эмоциональный стресс, фиксация на объект своей страсти, полная отрешенность от внешнего мира, невозможность общаться с окружающими, контролировать свое состояние и поведение, вести обычную повседневную жизнь» [20: 118].
То есть женщина, на которую направлен любовный заговор, чувствует тоску, и тоска не пускает ее жить по-прежнему.
Люди всегда любят красоту, но красота не любит людей. Одержимость такой любви создает чувство грусти. Так что в лечебных заговорах часто появляются «избавиться от тоски». Конечно, в таком чувстве есть тень расслабленности, нервная разбитость, болезненность из-за любви. Но в то же время люди боролись с этими, наслаждаясь красотой короткой жизни. Мирра написала о том же название, как произведение И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви» (1881). Прежде всего, отметим, что эпиграф – самое важное, так как в нем сконцентрирована мысль автора. Эпиграф ‒ слова Шиллера из стихотворения «Текла»: «Wage Du zu irren und zu träumen!»(«Дерзай заблуждаться и мечтать!»). Мирра ответила на это:
Песнь торжествующей любви (1893)
«Мы вместе наконец!.. Мы счастливы, как боги!..
Нам хорошо вдвоем!
И если нас гроза настигнет по дороге, –
Меня укроешь ты под ветром и дождем
Своим плащом!
И если резвый ключ или поток мятежный,
Мы встретим на пути, –
Ты на руках своих возьмешь с любовью нежной
Чрез волны бурные меня перенести, – Меня спасти!
И даже смерть меня не разлучит с тобою,
Поверь моим словам.
Уснешь ли вечным сном, – я жизнь мою с мольбою,
С последней ласкою прильнув к твоим устам
Тебе отдам!» [8: 129].
Т. А. Александрова пишет о мучении Мирры, касаясь рождения ее сына:
«В автобиографической справке Лохвицкая говорит, что вышла замуж в 1891 году. На тот же год указывает в своих записях Ф. Ф. Фидлер (со слов поэтессы): “Уж семь лет она замужем, у нее трое детей”. Однако в свидетельстве о венчании, сохранившемся в Собрании Тихвинского музея, указана точная дата венчания: 23 августа 1892 года. Не совсем понятно, как вписывается в эти даты рождение старшего сына Михаила. В непроверенных интернет-источниках всплывает дата 30 октября 1891 года. В принципе, она могла быть и ошибочной, поскольку в связи с революцией и эмиграцией документы менялись и нередко возникала путаница. Но нельзя исключить, что стихи оказывались правдивее документов и горестное восклицание лирической героини Лохвицкой: “Ужели первою грозою / / Вся жизнь изломана моя?” – принадлежит самой поэтессе. Возможно, с этими нестыковками рождения старшего сына и формальной даты заключения брака связаны многочисленные переезды семьи: Тихвин, Ярославль, Москва. Тем не менее мемуаристы единодушно вспоминают Лохвицкую как “целомудренную” женщину, хотя в этом “целомудрии”, возможно, было нечто болезненное: некая задавленность чувством вины, истинной или мнимой, – закомплексованность, как сказали бы сейчас» [8: 19].
Мирра хотела подчеркнуть – «И даже смерть меня не разлучит с тобою, Поверь моим словам». Она знала заключение повести Тургенева. В конце повести героиня беременна от неправедной любви, и у нее в утробе двигается новая жизнь. Если мы подумали бы об этом с точки зрения моральной концепции того времени, ей суждено было бы убить ребенка. Убить ребенка из-за неправедной любви является большим грехом, и это важная тема в мировой литературе, например в «Фаусте» и произведениях Шиллера: «Там и ты увидишь наши тени, Если любишь, как любила я; Там отец мой, чист от преступлений, Защищен от бедствий бытия».
Текла (Голос духа)
«Где теперь я, что теперь со мною, Как тебе мелькает тень моя?
Я ль не всё покончила с землёю, Не любила, не жила ли я?
Спросишь ты о соловьях залётных,
Для тебя мелодии свои
Расточавших в песнях беззаботных?
Отлюбив, исчезли соловьи.
Я нашла ль потерянного снова?
Верь, я с ним соединилась там,
Где не рознят ничего родного,
Там, где места нет уже слезам.
Там и ты увидишь наши тени,
Если любишь, как любила я;
Там отец мой, чист от преступлений,
Защищён от бедствий бытия.
Там его не обманула вера
В роковые таинства светил;
Там всему по силе веры мера:
Тот, кто верил, к правде близок был.
Есть в пространствах оных бесконечных
Упованьям каждого ответ.
Ройся ты в своих сомненьях вечных;
Смысл глубокий в грёзах детских лет.
Здесь главная мысль автора такова: «Там всему по силе веры мера: Тот, кто верил, к правде близок был».
Реальность рассматривалась как сочетание двух основных принципов. Другими словами, один – это Бог, а другой – человек. Поэтому люди занимали привилегированное положение в мире, потому что они могли достичь концепции Бога через разум. Однако в то же время, если бы человек следовал своим собственным инстинктам и был связан материальностью, он мог бы отступить в самое низкое состояние. Стихотворения Мирры являлись борьбой между ними. Ее стремление было направлено прямо к миру Бога через существо в качестве греховного человека. Это выражало постоянное напряжение человеческого духа, то есть состояние конфликта между верой и грешным любовным рождением человека. Другими словами, люди, как правило, хороши с точки зрения самого фактора человечества, но они не могут поддерживать совершенство, и иногда они потеряют разум из-за инстинкта. Мирра мечтала о совершенстве красоты мира Бога, хотя она все время чувствовала, что человек грешный. Она написала:
«Ты на руках своих возьмешь с любовью нежной
Чрез волны бурные меня перенести, –
Меня спасти!»
Для нее, боящейся уничтожения души, «спасение души» является главной темой жизни. Вот почему она придерживалась жизненной силы весны, невинной девы.