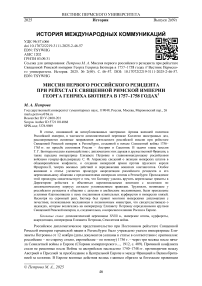Миссия первого российского резидента при рейхстаге Священной Римской империи Георга Генриха Бютнера в 1757–1758 годах
Автор: Петрова М.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История международных коммуникаций
Статья в выпуске: 2 (69), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье, основанной на неопубликованных материалах Архива внешней политики Российской империи, в частности дипломатической переписке Коллегии иностранных дел, рассматриваются основные направления деятельности российской миссии при рейхстаге Священной Римской империи в Регенсбурге, созданной в начале Семилетней войны 1756–1763 гг. по просьбе союзников России – Австрии и Саксонии. В задачи главы миссии Г. Г. Бютнера входило взаимодействие с дипломатами этих держав и дружественной Франции, а также передача императрице Елизавете Петровне и главнокомандующему российскими войсками генерал-фельдмаршалу С. Ф. Апраксину сведений о позиции имперских штатов в общеевропейском конфликте, о создании имперской армии против прусского короля Фридриха II, театрах военных действий и передвижении воинских контингентов. Особое внимание в статье уделяется процедуре аккредитации российского резидента и его церемониальному общению с представителями имперских штатов в Регенсбурге. Прохождение этой процедуры свидетельствует о том, что Бютнеру удалось вручить верительные грамоты в Директорию рейхстага и обменяться церемониальными визитами с коллегами по дипломатическому корпусу согласно установленным правилам. Трудности, возникшие у российского резидента в общении с датским и ансбахским посланниками, были преодолены усилиями благоволивших к нему посланников влиятельных курфюрстов и имперских князей. Несмотря на скромный ранг, Бютнер был принят многими имперскими дипломатами с почестями, положенными посланникам и полномочным министрам, что свидетельствовало о надеждах, которые возлагались на императрицу Елизавету Петровну определенными кругами Священной Римской империи, и, следовательно, о возросшем влиянии России в Европе.
Дипломатический церемониал XVIII в., имперские штаты, курфюрсты, аккредитация, императрица Елизавета Петровна, Семилетняя война
Короткий адрес: https://sciup.org/147250810
IDR: 147250810 | УДК: 94(47).066 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-2-46-57
Текст научной статьи Миссия первого российского резидента при рейхстаге Священной Римской империи Георга Генриха Бютнера в 1757–1758 годах
Силезию и Глац, до 1740 г. входившие в состав монархии Габсбургов и захваченные прусским королем Фридрихом II, который также имел территориальные претензии к Саксонии. Россия, будучи с 1746 г. союзницей Австрии, не только поддерживала ее реваншистские планы, но и имела в этой войне свои цели: приобретение Восточной Пруссии и последующий ее обмен на Курляндию – вассальное герцогство Речи Посполитой. С 1744 г. императрица Елизавета Петровна также состояла в союзе с курфюрстом Саксонии Фридрихом Августом II, являвшимся в силу личной унии королем Речи Посполитой под именем Августа III.
К концу 1756 г. в Священной Римской империи действовали только две российские миссии – в Вене и Гамбурге. Существовавшее ранее представительство в Берлине закрылось после разрыва дипломатических отношений между Россией и Пруссией в 1750 г. Миссия в Дрездене вынуждена была переехать в Варшаву вслед за курфюрстом Саксонии, капитулировавшим вместе со своей армией перед прусским королем Фридрихом II 5 (16) октября 1756 г. Создание еще одного российского представительства в Германии было обусловлено в первую очередь необходимостью иметь дополнительные каналы информации в условиях военного времени.
История регенсбургской миссии в ходе Семилетней войны была кратко рассмотрена Ю. Е. Ивониным, однако первый год ее работы почти не получил освещения [ Ivonin , 2013, S. 86–87]. Между тем этот год оказался важным для накопления опыта взаимодействия России с рейхстагом и имперским организмом в целом. События 1757–1758 гг. восстанавливаются в настоящей статье на материалах неопубликованной дипломатической переписки, хранящейся в Архиве внешней политики Российской империи.
Рейхстаг Священной Римской империи, созванный в Регенсбурге в 1663 г. и с тех пор продолжавший свою работу на постоянной основе, изначально являлся собранием всех имперских штатов (имперских сословий или имперских чинов, как их называют в русскоязычной традиции) – светских и духовных лиц (курфюрстов, избиравших императора; имперских князей, графов и др.) и корпораций (рыцарских и монашеских орденов, вольных и имперских городов). Заседания проходили в трех коллегиях – Коллегии курфюрстов, Коллегии имперских князей и Коллегии имперских городов. К середине XVIII в. рейхстаг превратился в собрание представителей имперских штатов, так что его неофициально называли конгрессом посланников ( Gesandtenkongress ).
По Вестфальским мирным договорам 1648 г. имперские штаты получили право верховенства на принадлежавших им территориях (лат. libero iuris territorialis , нем. hohe Lands-Obrigkeit ) и право на проведение самостоятельной внешней политики, заключение союзов между собой и с иностранными государями с оговоркой, что эти союзы не будут направлены против императора и интересов империи. Указанные права имперские штаты, особенно курфюрсты, трактовали как суверенитет, с чем признанные суверены ‒ как монархии, так и республики (например, Венецианская республика или Республика Соединенных провинций, признанная на Вестфальском конгрессе) ‒ соглашались лишь с оговорками, считая, что имперские штаты формально сохраняли вассальную зависимость от императора. Некоторые курфюрсты нашли выход из создавшегося положения через получение королевского титула, используя для этого самые разные пути. В 1697 г. курфюрст Саксонии был избран королем Речи Посполитой. В 1701 г. курфюрст Бранденбурга и герцог Пруссии сам возложил на себя королевскую корону. В 1714 г. курфюрст Брауншвейг-Люнебурга в силу династических связей стал королем Великобритании. Королевский титул носил и курфюрст Богемии. Остальные курфюрсты – светские (Пфальц и Бавария) и духовные (Майнц, Трир, Кёльн) – до конца XVIII в. добивались признания суверенитета через признание равенства с коронованными особами [ Stollberg-Rilinger , 2002].
Основным инструментом для этого служил дипломатический церемониал, поскольку изначально сувереном считали того, кто имел право направлять к иностранному двору послов (лат. legatus, фр. ambassadeur), т.е. дипломатов первого ранга. Отметим здесь, что термин «дипломат» вошел в международный обиход примерно к середине XIX в. В раннее Новое время вместо него использовался латинский термин minister (министр), перешедший во многие европейские языки, в том числе в русский; в германском пространстве для коллективного обозначе- ния дипломатов использовалось слово Gesandte (посланник), которое впоследствии было перенесено на дипломатов второго ранга – (чрезвычайных) посланников и полномочных министров.
С конца XVII в. при рейхстаге Священной Римской империи аккредитовались представители иностранных держав – Франции, Великобритании, Республики Соединенных провинций. Некоторые иностранные государи имели владения в Священной Римской империи (например, шведский король – Переднюю Померанию, датский король – Гольштейн-Глюкштадт, британский король – Брауншвейг-Люнебург) и поэтому направляли на рейхстаг своих посланников еще и как имперские штаты.
Процедура аккредитации иностранных дипломатов заключалась в подаче верительной (кредитивной) грамоты в Директорию рейхстага ( Reichstagsdirektorium ), или Имперскую директорию ( Reichsdirektorium ), которую возглавлял курфюрст и архиепископ Майнца как эрцканцлер империи. После приема грамоты ее текст доводился до сведения рейхстага, вносился в протоколы его заседаний и публиковался. Затем иностранные дипломаты должны были официально уведомить представителей курфюрстов и имперских князей, а также представителя императора на рейхстаге – главного комиссара ( Prinzipalkommissar ) – о своем прибытии. Для этого готовились специальные билеты, которые развозили или секретари посольства, или в отсутствие последних – личные секретари дипломатов. Они же должны были договориться о времени взаимных визитов. Порядок приема и отдания дипломатических визитов в Европе регулировался простым правилом: равные и ниже стоявшие по рангу дипломаты первыми навещали вновь прибывшего коллегу, а он отдавал им визит; к выше стоявшим новичок приезжал сначала сам, а потом принимал их у себя. Дипломаты первого ранга получали обращение «превосходительство».
В конце XVII в. представители Франции на рейхстаге имели обычно статус полномочных депутатов ( députés plénipotentiares ) или уполномоченных ( plénipotentiares ), позднее оформившийся в ранг полномочного министра, т.е. министра второго ранга [ Braun , 2012]. Великобритания и Республика Соединенных провинций чаще присылали министров третьего ранга – резидентов или так называемых министров без характера, особенно после того как в 1702 г. Коллегия курфюрстов провозгласила своих представителей на рейхстаге послами, т.е. дипломатами первого ранга, рассчитывая вынудить иностранные державы направлять в Регенсбург послов. В 1714 и 1726 гг. это решение было подтверждено. Послов же по обычаю направляли только к суверенам. Поэтому во избежание церемониальных сложностей иностранные державы предпочитали присылать на рейхстаг дипломатов третьего ранга – министров без характера, реже – резидентов. И те, и другие не могли претендовать на получение первого визита и титула «превосходительство», а также не участвовали в ряде церемоний. Таким образом, основанием для менее почетного церемониального обращения становился ранг дипломата, а не статус его государя [ Петрова , 2021 b ].
Первым постоянным российским представителем при рейхстаге в ранге резидента с жалованьем 3 тыс. рублей в год был назначен секретарь посольства в Вене, уроженец Пруссии Георг Генрих Бютнер ( Georg Heinrich Büttner , в русских источниках также Битнер, ?–1758). На российскую службу он поступил в конце 1730-х гг. и на протяжении 20 лет был секретарем российского дипломата курляндского происхождения графа Германа Карла фон Кейзерлинга, пока тот был посланником в Дрездене и Берлине и послом в Вене. В 1745–1746 гг. Кейзерлинг в сопровождении Бютнера был направлен с чрезвычайной миссией во Франкфурт-на-Майне и в Регенсбург, где добился признания императорского титула Елизаветы Петровны от Коллегии курфюрстов и рейхстага [ Петрова , 2021 а ]. Опыт пребывания Бютнера в Регенсбурге сыграл свою роль в его назначении резидентом в ноябре 1756 г.
Верительная грамота рейхстагу, составленная по обычаю на русском языке и подписанная Елизаветой Петровной 6 (17) февраля 1757 г., гласила: «Любезнейшие великие друзья! Понеже мы за благоразсудили для престережения дел Наших отправить на Сейм Ваш в резидентском карактере Нашего надворного советника Георгия Генрика Бютнера; того ради прилежно от Вас желаем, чтобы Вы не токмо дозволили ему свободный к себе доступ, но и всему тому, что он Нашим именем Вам предлагать будет, за Наши точныя соизволения принимали и совершенно удостоверены были, что мы всему Вашему Собранию Нашу благосклонную друж- бу и благоволение при всяком случае подтверждать будем» (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 1. Л. 3, черновик). Согласно канцелярской помете, «писана она грамота на Голандской обрезной болшой бумаге в тетрать и к оной пришит перевод на латинском языке, писанной на такой же бумаге цветным средним шолком, и на оригинале ниже подписи Ея Императорскаго Величества приложена по концам того шнура меньшая Государственная печать под кустодиею бумажною на красном воску без прошивки» (Там же. Л. 3 об.). Латинский язык традиционно являлся основным языком общения между Россией и Священной Римской империей.
В обстоятельной инструкции от 31 декабря 1756 г., подготовленной для Бютнера в Коллегии иностранных дел от имени императрицы Елизаветы Петровны, среди причин создания миссии в Регенсбурге указывались настойчивые просьбы союзных России венского и саксонского дворов. Присутствие дипломата Российской империи при рейхстаге должно было способствовать укреплению ее авторитета в Германии и придать уверенность имперским штатам в том, что их интересы в трудное военное время будут поддержаны сильной державой. Бютнер должен был также направлять в Петербург и главнокомандующему российскими войсками ге-нерал-фельдмаршалу Степану Федоровичу Апраксину (1702–1758) необходимые сведения о расстановке сил в Священной Римской империи, новости о военных действиях, расположении войск противника, поведении имперских посланников на рейхстаге, а также поддерживать доверительные отношения с дипломатами союзников по коалиции – Австрии, Саксонии и дружественной Франции, с которой Россия на момент подписания инструкции еще не состояла в союзе (АВПРИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 85. Л. 350–356 об.). Отдельным рескриптом от 31 января 1757 г. резиденту вменялось в обязанность блюсти интересы наследника российского престола, великого князя Петра Федоровича как владеющего герцога Гольштейн-Готторпского, совместно с его представителем на рейхстаге Карлом Вильгельмом Тойфелем фон Пиркензее (АВПРИ. Ф. 51. Оп. 7. 1759–1761. Л. 138–138 об.).
Инструкция была направлена Бютнеру в Вену 8 февраля, тогда же ему были выделены 2 тыс. рублей на проезд в Регенсбург. В помощь дипломату для ведения корреспонденции Коллегия иностранных дел назначила указом от 31 марта 1757 г. капитана посольства в Вене Павла Артемьевича Левашева, рассчитывая, что он будет иметь «способной случай к приобретению точнаго знания об узаконениях Римския империи и обо всем до того касающемся» (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1756. Д. 2. Л. 46). Однако из-за задержки с выплатой денег на проезд из Вены в Регенсбург Левашев до февраля 1758 г. так и не выехал к месту службы (АВПРИ. Ф. 32. Оп. 1. 1757. Д. 6а. Л. 217–217 об.), поэтому резидент был вынужден выполнять свои обязанности в одиночку, прибегая к помощи личного секретаря.
В Регенсбург Бютнер прибыл 12 (23) апреля 1757 г. До вручения верительной грамоты в Директорию рейхстага он не мог ездить с официальными визитами, поэтому в первые дни пообщался неформальным образом только с саксонским посланником на рейхстаге Иоганном Георгом фон Поникау. Последний заверил российского резидента, что дипломаты союзных дворов с воодушевлением восприняли решение Елизаветы Петровны направить на рейхстаг своего представителя, и выразил надежду на то, что в скором времени «дружественная к Германской империи склонность и великодушное и твердое намерение к благополучию и тишине оныя», проявленные императрицей, будут очевидны остальным имперским штатам (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 2. Л. 9–10 об.). Цитаты из реляций Бютнера, составленных на немецком языке, даются в переводах, подготовленных служащими Коллегии иностранных дел. Точность цитат проверена по оригиналам.
Кроме того, Поникау дал Бютнеру ряд ценных советов о прохождении процедуры аккредитации, правилах отдания и приема церемониальных визитов и даже проконсультировался по этому вопросу с императорским сокомиссаром (Konkommissar или Con-Commissar) – помощником главного комиссара графом Августом Фридрихом фон Зайдевицем и богемским посланником графом Кристианом Августом фон Зайлерном, представлявшим на рейхстаге правительницу монархии Габсбургов и супругу императора Священной Римской империи Франца I Марию Терезию как королеву и курфюрста Богемии. Такие консультации были нелишними, поскольку в середине XVIII в. иностранные монархи крайне редко отправляли на рейхстаг резидентов, и церемониал их приема был недостаточно разработан.
Сокомиссар Зайдевиц предложил Бютнеру пойти по пути наименьшего сопротивления: после вручения кредитива в Директорию рейхстага объехать имперских и иностранных дипломатов с первыми визитами. Тем, кого он не застанет дома, оставить билет, или уведомительный лист ( Anzeig-Blatt ), а при ответном визите тоже не принимать их у себя, а ограничиться получением карточки ( Carten-Blatt ). Богемский посланник Зайлерн считал, что для резидента подобное поведение, претендующее на равенство со стоявшими выше по рангу, может вызвать возражение представителей имперских штатов, и предложил подождать, пока они договорятся между собой, как поступить с вновь прибывшим коллегой. Из чего Бютнер заключил, что ему следует со всей серьезностью отнестись к церемониальным визитам, дабы не уронить честь своего двора в сложных обстоятельствах военного времени. После того как посланники курфюрстов сообщили российскому резиденту, что его будут принимать в соответствии с постановлением рейхстага 1726 г., дипломат приступил к аккредитации (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 2. Л. 152–153).
28 апреля (9) мая 1757 г. за неимением секретаря посольства Бютнер отправил своего личного секретаря в нарядной ливрее и в карете к директориальному посланнику ( Direktorialgesandte ) курфюрста Майнца барону Филиппу Вильгельму Альберту фон Линкеру для подачи верительной грамоты. Тот принял ее весьма любезно. На следующий день Бютнер направил секретаря к главному императорскому комиссару князю Александру Фердинанду Турн-унд-Таксису, чтобы договориться о времени первого визита. В этот день на 5 часов вечера у князя была назначена аудиенция, и он выразил желание принять Бютнера сразу после нее, но о точном времени обещал сообщить позднее. В 6 часов вечера княжеский скороход принес российскому резиденту известие, что главный комиссар готов принять его немедленно. «Сего ради, – писал Бютнер в специальном отчете Елизавете Петровне 11 (22) мая 1757 г., – поехал я тотчас туда и проехал в большие ворота до крыльца, с низу котораго в верх до большой залы по обеим сторонам поставлены были княжеские ливрейные служители, которых число велико. При выходе моем из кареты приняли меня у последней ступени два кавалера и провели меня сквозь большой зал и два апартамента, из коих в последней вышел ко мне на встречу из Аудиенц-Камеры Его княжеская милость и, приняв меня ласково, повел с собою в ту камеру» (Там же. Л. 153 об.–154). В ходе краткой беседы, проходившей сидя в креслах, Бютнер сообщил о целях своей миссии при рейхстаге. Главный комиссар ответил, что воспринимает его приезд как знак особой милости российской императрицы, и выразил надежду, что она «соизволит все свои силы к благополучию империи употребить и в том споспешествовать» (Там же. Л. 154 об.–155).
30 апреля (10 мая) секретарь Бютнера объехал императорского сокомиссара Зайдевица и всех пребывавших в Регенсбурге имперских (за исключением посланника Бранденбурга как представителя враждебного России государя Фридриха II) и иностранных дипломатов, чтобы объявить о будущих визитах российского резидента. В тот же день он уже сам объехал дома дипломатов. Посланники имперских князей, императорский сокомиссар Зайдевиц и посланник курфюрста Саксонии Поникау приняли Бютнера «с великою учтивостию», посланники других курфюрстов его не приняли, даже богемский и майнцский, хотя последний предварительно назначил время для визита. Тем, кого не застал, резидент оставил билеты с уведомлением об аккредитации и принял решение до конца этого и на следующий день не быть дома, чтобы проверить, приедут ли к нему посланники курфюрстов с ответными визитами. Как Бютнер и предполагал, приехал только представитель Саксонии, но, «чтобы не привесть его с другими в несогласие», резидент решил его не принимать. При этом Бютнер принял взаимные визиты от всех княжеских посланников. Поскольку они встречали его с бóльшими почестями, чем это было положено по постановлению рейхстага 1726 г., т.е. на верхней ступени крыльца, и провожали до того же места, он при ответном визите спустился на две ступени ниже и обращался к ним с титулом «превосходительство», положенным только послам. Таким образом, с российским резидентом обращались как с посланником – министром второго ранга, чем он был весьма доволен и что можно расценить как знак уважения к Елизавете Петровне и свидетельство надежд, возлагаемых на нее определенными кругами Священной Римской империи (Там же. Л. 155–155 об.).
-
2 (13) числа мая 1757 г. Бютнер объявил о своем прибытии и легитимации при рейхстаге директору Коллегии имперских городов и магистрату города Регенсбурга, сделав это через личного секретаря, а не через канцеляриста (младшего сотрудника миссии), как это было принято, оказав им тем самым особую честь. После этого резидент получил от Коллегии городов поздравительный комплимент, а от Регенсбурга подарок – три короба с винами разных сортов, всего 60 бутылок, присланных с поздравительной депутацией, одетой в церемониальные платья, в сопровождении членов магистрата, произнесших торжественную речь. Бютнер заметил, что резидентам подобную честь ранее не оказывали, а иностранные дипломаты подарки обычно не брали, потому что носильщикам нужно было платить вознаграждение. Российский резидент подарок принял, а награда за услуги превзошла цену подарка (Там же. Л. 155 об.–156).
С приемом Бютнера медлили только посланники курфюрстов. 7 (18) мая он даже обратился к саксонскому посланнику Поникау за разъяснениями. Причина задержки заключалась в том, что российский резидент до конца не прошел процедуру аккредитации: его верительная грамота еще не была внесена в официальные документы рейхстага. Поникау взялся уладить дело, тем более что Бютнер начал объезд имперских дипломатов только на третий день после передачи грамоты. Усилия саксонского посланника увенчались успехом, и в тот же день, 7 (18) мая, с визитом к российскому резиденту приехал посланник курфюрстов Кёльна и Пфальца барон Фридрих Карл Карг, 8 (19) мая – посланник Баварии барон Йозеф Мария фон Нейгауз, а еще через пару дней – Линкер и Зайлерн, представители курфюрстов Майнца и Богемии. Последним визит Бютнеру отдал барон Людвиг Эберхард фон Гемминген, посланник курфюршества Брауншвейг, принадлежавшего британскому королю, с которым Елизавета Петровна в состоянии войны не находилась. (Там же. Л. 150–151, 156–159 об., 225–225 об.). Процедура аккредитации и легитимации была завершена.
Через месяц противоречия по церемониальным вопросам возникли у российского резидента с представителем Гольштейн-Глюкштадта, принадлежавшего королю Дании. В июне 1757 г. к пожилому посланнику Иоганну Кристофу фон Мольтке был назначен в помощь его зять барон Людвиг Генрих Бахоф фон Эхт, которому предстояли аккредитация и обмен визитами. Однако по наущению Мольтке Бахоф не только не посетил Бютнера, но и не прислал ему даже письменного уведомления о вручении рейхстагу верительной грамоты. Российский резидент просил Коллегию иностранных дел выяснить через российского посланника в Копенгагене барона Иоганна Альбрехта Корфа, действовали ли Мольтке и Бахоф по распоряжению датского двора или это была их личная инициатива, продиктованная тесным общением с бранденбургским посланником на рейхстаге бароном Эрихом Кристофом фон Плото (Там же. Л. 249–250).
В сентябре 1757 г. Корф сообщил, что формальным предлогом для отказа Бахофа от общения с Бютнером стал его ранг резидента. Гольштейн-Глюкштадтский посланник доложил в Копенгаген, что по правилам, закрепившимся на рейхстаге, мог отправить к российскому резиденту только канцеляриста, а не секретаря посольства. Бютнер, скорее всего, его бы не принял, поэтому во избежание недоразумений Бахоф решил общение с российским резидентом не инициировать, заметив, что в распоряжении Бютнера нет секретаря посольства и потому он использует для передачи корреспонденции своего слугу. Гольштейн-Глюкштадтский посланник также подговорил прибывшего на рейхстаг Иоганна Лоренца фон Зеефрида, нового посланника маркграфства Бранденбург-Ансбах, не извещать российского резидента о своей аккредитации по тем же причинам. Бютнер возразил на это, что отсутствие секретаря посольства ранее не помешало его официальному общению не только с посланниками имперских князей, но и с посланниками курфюрстов. К ним был послан не слуга, а личный секретарь, что часто практиковали иностранные дипломаты на рейхстаге за неимением секретарей посольства. На замечание Бахофа о том, что к резиденту Республики Соединенных провинций и посланникам имперских графов, стоявших по положению ниже имперских князей, обычно направляют канцеляристов, Бютнер заявил, что использовать подобные примеры для общения с резидентом «высокого императорского двора», каковым он является, некорректно (Там же. Л. 500–505).
Конфликт был улажен усилиями представителей курфюрстов и имперских князей на рейхстаге, а также императорского сокомиссара Зайдевица, которые заступились за Бютнера и пообещали ему, что после необходимых для проформы консультаций со своими дворами голь-штейн-глюкштадтский и ансбахский посланники отправят к нему секретарей посольства с извещением о своей аккредитации на рейхстаге и времени взаимных визитов. Российский резидент обещал прислать к ним в ответ не личного секретаря, а секретаря гольштейн-готторпской миссии в Регенсбурге Антона Себастьяна Струве (Там же. Л. 536–537 об.).
Елизавета Петровна оценила поведение Бютнера и приложенные им старания избегать затруднений и споров, случающихся при вручении верительных грамот и в ходе церемониальных визитов. Одобрение получила и его позиция в конфликте с бароном Бахофом. Рескриптом от 16 июля 1757 г. резиденту предписывалось «и впредь о всем, что в вашем месте и в тамошних произходить будет, нам почасту доносить и стараться получать надежнейшие известия о всех движениях и действах, состоящих н(ы)не в Богемии и в Германии разных армий» (Там же. Л. 79–79 об.).
Действительно, события войны против Пруссии являлись предметом самого пристального внимания Бютнера. Первые его реляции из Регенсбурга были посвящены проблемам подготовки Имперской экзекуционной армии. Ее должны были созвать в соответствии с заключением ( Reichsgutachten ) рейхстага об объявлении Фридриху II имперской войны. Заключение было принято 6 (17) января 1757 г. после голосования в трех коллегиях и ратифицировано императором Францем I 18 (29) января, после чего оно приобрело статус имперского решения ( Reichss-chluß ). 15 (26) февраля был подготовлен так называемый комиссионный декрет, которым Франц I уполномочил все округа Священной Римской империи и входившие в них штаты собрать к концу марта 1757 г. конные и пешие войска в полном вооружении и втрое больше числа, положенного по продолжавшему действовать имперскому матрикулу 1681 г., и держать их в боевой готовности (имперский матрикул – периодически утверждаемый рейхстагом список имперских штатов Священной Римской империи, на которых возлагались обязанности по выставлению воинских контингентов в имперскую армию и уплате общеимперских налогов) [ Huschberg , 1856, S. 113–116; История Семилетней войны, 2015, с. 12–13].
Теперь имперским штатам предстояло договориться о финансировании имперской армии, создании специальной кассы для хранения средств, порядке выделения амуниции и боеприпасов, подготовке магазинов и провианта и, наконец, о месте сбора армии. За основу было взято заключение рейхстага от 14 апреля 1734 г. об объявлении Франции имперской войны, принятое в поддержку интересов Саксонии в ходе Войны за польское наследство 1733–1735 гг. Каждый имперский штат или округ империи должны были самостоятельно подготовить и содержать свой контингент, обеспечить его артиллерией и действовать в согласии с имперским генералитетом. Избрание командования и генералов находилось в ведении императора, он же определял место сбора имперской армии и основные направления ее действий [История Семилетней войны, 2015, с. 12–15].
Однако обсуждение на рейхстаге вопросов о созыве Имперской экзекуционной армии шло тяжело, и подготовить ее к концу марта 1757 г. не удалось. Так как решение об объявлении имперской войны Фридриху II не было единогласным, многие штаты пытались уклониться и от выставления воинских контингентов, и от выплаты 30 «римских месяцев» (так с 1521 г., после похода императора Карла VI на Рим, стали называть денежный взнос на армию в размере месячного содержания в 12 флоринов за всадника и 4 флорина за пехотинца) [Там же, с. 12–18]. Таким образом действовали, к примеру, Саксен-Гота, Гессен-Кассель и Гольштейн-Глюкштадт, традиционно связанные с Пруссией и голосовавшие против объявления Фридриху II имперской войны. Эти штаты собирались придерживаться позиции нейтралитета, опасаясь, что их земли подвергнутся разорению в ходе военных действий. Бютнер подробно рассказывал о дискуссиях, развернувшихся на рейхстаге в конце апреля – начале мая 1757 г. по этому вопросу (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 2. Л. 66–66 об.), а также освещал международный фон, на котором развивались события.
9 (20) марта 1757 г. католическая Франция и протестантская Швеция как гаранты Вестфальского мира направили в рейхстаг декларации, в которых выражали обеспокоенность нарушением мира в Священной Римской империи и обещали употребить все свои силы, чтобы защитить религиозную свободу в Германии, пресечь разорение ее территорий и добиться возмещения нанесенного войной ущерба. Главным возмутителем спокойствия в империи был назван прусский король (АВПРИ. Ф. 32. Оп. 1. 1757. Д. 6а. Л. 31 об.–32). Декларации легли в основу текста заключенной 10 (21) марта между Швецией и Францией конвенции о защите шведских владений в Померании, к которой присоединилась и Австрийская монархия. Фридрих II направил на рейхстаг ответную декларацию, признав права Версаля и Стокгольма вмешиваться в дела империи, однако, по его мнению, гаранты Вестфальского мира должны были прежде всего оказывать воздействие на венский двор и его союзников, которые сами бы напали на прусские земли, не нанеси король упреждающий удар (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 2. Л. 34–35).
В конце апреля 1757 г. император Франц I и французский король Людовик XV потребовали от имперских штатов Рейнских и Франконского округов империи разрешить проход войск антипрусской коалиции через свои территории. В свою очередь, Фридрих II запросил у герцога Баварии беспрепятственный проход для своих войск через баварские и пфальцские земли. Тот вынужден был согласиться, рассчитывая, что прусские войска не нанесут урон его землям, зная, что Бавария придерживается нейтралитета в конфликте (см. реляции Бютнера от 23 апреля (4 мая) и 27 апреля (8 мая) 1757 г. и приложения к ним: АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 2. Л. 52–53, 54–55 об., 63–65). Наблюдая за поведением имперских штатов, российский резидент констатировал рост беспокойства со стороны местного населения, вспомнив «известное старое рассуждение», что «Немецкую империю, яко весьма крепко сооруженную махину, трудно в движение привесть, но оную легко паки остановить можно» (Там же. Л. 64 об.–65). А лучший способ поддерживать ее в движении ‒ это войска союзников, находящиеся поблизости и действующие сообща (Там же).
Спорный вопрос о выплате «римских месяцев» был урегулирован имперским заключением от 9 мая 1757 г. В нем говорилось, что взносы в походную кассу, образованную в Регенсбурге, можно выплатить в три захода – в мае, июле и сентябре. Это единственный компромисс, которого удалось добиться имперским штатам, опасавшимся за падение своих доходов. Хотя они высказывали возражения со ссылкой на имперское законодательство, Бютнер считал их беспочвенными, поскольку «сей случай касается до крайнейшей опасности, явного и всеобщаго благополучия, чему по имперским фундаменталным уставам каждой имперской сочин [штат. – М. П. ] всеми силами без отрыцания способствовать всегда обязан» (Там же. Л. 77–78). Решением от 19 мая Франц I утвердил заключение рейхстага и поручил исполнить его. Местом сбора Имперской экзекуционной армии объявлялась местность между Вюрцбургом и Нюрнбергом, куда для подкрепления мог прибыть и корпус французской армии (Там же. Л. 106–107, 176–177 об.).
Большое внимание в своих реляциях Бютнер уделял также процессу объявления Фридриху II как курфюрсту Бранденбурга так называемой имперской опалы (Reichsacht; переводчики Коллегии иностранных дел переводили это слово как «имперский бан»), которой подвергались время от времени германские князья за нарушение земского мира, неисполнение решений, вынесенных Имперской судебной палатой (Reichskammergericht), или за выступление против императора. Заключение рейхстага о целесообразности объявления имперской опалы было передано императору 22 марта (1 апреля) 1757 г., однако Франц I решил действовать осторожно, подписав грамоту для Фридриха II с требованием явиться для разбирательства в Имперский надворный совет (Reichshofrat; центральный орган империи, совмещавший судебные и административные функции и ответственный за процедуру) лишь 11 (22) августа. Вопреки законодательству, Имперский надворный совет решил передать грамоту не лично Фридриху II или его правительству, а бранденбургскому посланнику на рейхстаге барону Плото, хотя дипломатические представители не были уполномочены принимать подобные документы [Huschberg, 1856, S. 136–137]. Когда Плото понял, с какой целью 3 (14) октября 1757 г. к нему в дом пришел императорский нотариус Георг Матиас Априль, он в ярости швырнул документ в лицо посланцу и приказал слугам вытолкать его за дверь. Бютнер в красках описал инцидент в приложении к ре- ляции от 8 (19) октября, заметив, что, хотя процедура не была соблюдена, Имперский надворный совет 16 (27) октября постановил, что передача уведомления Фридриху II состоялась. Оно было опубликовано в середине ноября. Королю и курфюрсту дали два месяца на то, чтобы явиться в Имперский надворный совет для оглашения ему имперской опалы. 18 (29) ноября барон Плото заявил протест, сославшись на процедурные нарушения (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 2. Л. 582– 582 об., 614–614 об., 710–711 об.). В реляции от 28 декабря 1757 (8 января 1758 г.) Бютнер сообщил, что срок, в течение которого Фридрих II должен был явиться в Имперский надворный совет по этому делу, истекал 3 (14) января 1758 г. (Там же. Л. 771–772 об.). Король, разумеется, проигнорировал распоряжение, поэтому имперская опала так и не была ему объявлена.
Реляции Бютнера свидетельствуют о том, что его познания в истории и законодательстве Священной Римской империи были весьма обширны. По поводу каждого внутриимперского конфликта он имел свое собственное мнение, опиравшееся на прецеденты и законы, прежде всего на Вестфальские мирные договоры и так называемые избирательные капитуляции – перечни обещаний, даваемых императорами при избрании и согласованных с имперскими штатами. Любопытен комментарий Бютнера, высказанный 6 (17) июля 1757 г. по поводу конфликта Фридриха II с главным императорским комиссаром князем Александром Фердинандом Турн-унд-Таксисом. Являясь одновременно главным почтмейстером империи, князь приказал занять расположенный в землях курфюршества Бранденбург почтамт в городе Везель, прибить на него имперский герб, одеть почтальонов в имперскую ливрею и выразил намерение поступить также в других почтамтах, принадлежавших Фридриху II и расположенных в Клевском, Нижнерейнском и Вестфальском округах империи.
Бранденбургский посланник барон Плото опубликовал промеморию с протестом, объявив это мероприятие «противным имперским узаконениям», поскольку, согласно Вестфальским мирным договорам и избирательным капитуляциям, почтовое дело находилось исключительно в ведении императора и без его приказа действия главного почтмейстера могли быть расценены как самоуправство. Бютнер соглашался с тем, что имперские штаты в силу «верхов-но-начальственнаго величества их» ( Oberlandesherrlichen Hoheit ), зафиксированного Вестфальским мирным договором, получили право заводить в своих землях почтовые и прочие полезные учреждения, а имперская опала так и не была наложена на Фридриха II (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 2. Л. 327–328). С другой стороны, сами имперские штаты еще в 1520 г. согласились с предложением императора Карла VI передать почтовое дело семье Таксис (с 1650 г. Турн-унд-Таксис) в качестве наследственного лена. Поэтому, как заключал Бютнер, претензии Фридриха II в нынешних обстоятельствах не будут поддержаны рейхстагом, однако при заключении мирного договора имперские штаты, скорее всего, припомнят императору самовольные действия генерального почтмейстера и будут отстаивать свое право на заведение почтамтов (Там же. Л. 329–330 об.).
Пересылая в Петербург промеморию Плото, российский резидент выразил надежду на то, что его «дерзновение в учинении на оную сих примечаней, во гнев принято не будет» (Там же. Л. 330 об.). Помета канцлера Михаила Илларионовича Воронцова «Сии разсуждении не инако как с похвалою здесь приемлются» (Там же), сделанная на полях реляции, свидетельствует о том, что комментарии Бютнера по имперским делам в Коллегии иностранных дел читали внимательно и оценивали высоко, хотя количество рескриптов, направленных Бютнеру из Петербурга (не считая циркулярных, т.е. адресованных всем российским дипломатам), совсем невелико и они содержат лишь самые общие распоряжения продолжать наблюдать за тем, что происходит в Германии.
Интересны размышления Бютнера о том, как менялась позиция Фридриха II по вопросу о признании права Франции и Швеции как гарантов Вестфальского мира вмешиваться в дела империи. После вступления французских войск в принадлежавшие Бранденбургу земли герцогства Клеве, графств Мёрс и Марк прусский король обвинил Людовика XV в том, что он рассчитывает под предлогом гарантии расширить свои владения, и заявил, что без предварительного соизволения всех курфюрстов, имперских князей и остальных имперских штатов нахождение иностранных войск на территории империи является незаконным. Бютнер назвал эти обвине- ния противоречащими не только Вестфальскому договору, но и здравому смыслу, поскольку ни один курфюрст, нарушивший мир в империи, не будет голосовать за вмешательство гарантов этого мира. Введение иностранных войск российский резидент расценивал как горькое, но необходимое лекарство, а сетования Фридриха II о грядущих разорениях германских земель считал лукавством (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1757. Д. 2. Л. 188–191). Бютнер не исключал, что такие же доводы прусский король может использовать и против вступления российских войск на его территорию, однако в таком случае, по мысли резидента, имперское законодательство перестанет действовать, а основанием для введения войск будут служить «резоны из натуралнаго [естественного. – М. П.] и всенароднаго права» (Там же. Л. 191). Ознакомившись с реляцией, канцлер Воронцов написал на полях: «Уведомить о получении его реляции и чтоб он прилежно о всем, что в Регенсбурхе и в околичности тамошней происходит сюды доносил» (Там же. Л. 191 об.). После вступления шведских войск в Бранденбургскую Померанию 2 (13) сентября Фридрих II через своего посланника на рейхстаге барона Плото заявил протест шведской гарантии Вестфальского мира. Российский резидент заметил, что все участники антипрусской коалиции признают случай гарантии и назвал демарш короля «пустыми отговорками» (Там же. Л. 542–543, 568 об.).
Собственно о военных действиях Бютнер писал мало, не всегда быстро получая сведения об их ходе, особенно о том, что происходило в Восточной Пруссии. К примеру, он благодарил Коллегию иностранных дел за сообщение о победе российских войск при Гросс-Егерсдорфе 19 (30) августа 1757 г. Резидент опасался за жизнь своей восьмидесятилетней матери по фамилии Фишер, проживавшей в Голдшуэ (Holdschue) в прусском Ортельсбурге (Ortelsburg), неподалеку от польской границы близ Варшавы, и в реляции от 23 июля (3 августа) 1757 г. просил подготовить для нее охранный лист и отправить этот документ российскому посланнику в Польше Генриху Гроссу. Елизавета Петровна такую защиту предоставила (Там же. Л. 355–355 об.).
С октября 1757 г. Бютнер начал болеть, и число реляций, направляемых им в Петербург, существенно сократилось. В январе 1758 г. он долго не выходил из дома, но надеялся поправиться. 4 (15) февраля резидент сообщил Елизавете Петровне, что церемониальные споры с посланником Ансбаха улажены, а 16 (27) февраля неожиданно скончался. Об этом Коллегию иностранных дел уведомил посланник Гольштейн-Готторпа на рейхстаге Тойфель фон Пиркензее. Российское представительство временно возглавил прибывший из Вены капитан посольства П. А. Левашев (АВПРИ. Ф. 83. Оп. 1. 1758. Д. 3. Л. 40–40 об., 45–45 об.).
Миссия Бютнера оказалась короткой, ее результативность в связи с событиями Семилетней войны оценить трудно. Однако компетентность российского резидента, глубокое понимание им такого сложного организма, как Священная Римская империя, сомнений не вызывает. Важно также подчеркнуть, что принципы церемониального общения, разработанные Бютнером в отношениях с дипломатическими представителями имперских штатов и иностранных держав при рейхстаге, стали во многом образцом для всех его преемников, пребывавших на этом посту до начала XIX в.