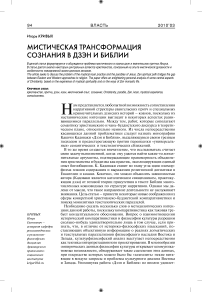Мистическая трансформация сознания в "Дзэн и Библии"
Автор: Кривых Игорь Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия и общество
Статья в выпуске: 3, 2010 года.
Бесплатный доступ
В данной статье формулируется и обсуждается проблема мистического в коанах дзэн и евангельских притчах Иисуса. В статье дается анализ некоторых центральных аспектов христианства, основанный на опыте мистической духовности и особенностях повседневной жизни дзэнских монахов.
Христианство, притча, дзэн, коан, мистический опыт, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/170165283
IDR: 170165283
Текст научной статьи Мистическая трансформация сознания в "Дзэн и Библии"
Н ам представляется любопытной возможность сопоставления нарративной структуры евангельских притч и специальных нравоучительных дзэнских историй – коанов, поскольку их наставнические интенции выглядят в некоторых аспектах развивающимися параллельно. Между тем, работ, которые сополагают семантику христианского и чань-буддистского дискурса в теоретическом плане, относительно немного. Из числа непосредственно касающихся данной проблематики следует назвать монографию Какичи Кадоваки «Дзэн и Библия», выделяющуюся своим трезвым подходом и предостерегающую против переоценки «универсальных» семантических и текстологических сближений.
В то же время создается впечатление, что исследователь считает свою задачу выполненной, когда ему удается найти какие-то дополнительные аргументы, подтверждающие правомерность объединения христианства и буддизма как практик, эксплицирующих единый опыт богообщения. К. Кадоваки ставит во главу угла идею изоморфизма планов содержания и выражения религиозной догматики в Евангелии и коанах. Конечно, это можно объяснить зависимостью автора (Кадоваки является католическим священником, практикующим дзэн) от готовой теории присутствия в тексте Библии многочисленных коановидных по структуре нарративов. Однако мы далеки от мысли, что такое направление деятельности не заслуживает внимания. Цель статьи – привести некоторые новые соображения из сферы конкретной христианско-буддистской компаративистики и поиска монолитных текстологических параллелей.
КРИВЫХ
Игорь
Евгеньевич – аспирант кафедры религиоведческих
Необходимо сказать несколько слов о методологических интенциях данной работы, поскольку компаративистика как таковая требует концептуального обоснования. Вопрос о взаимоотношении исторической компаративистики и философии культуры разрешим сколько-нибудь удовлетворительно лишь в том случае, если признать, что, в отличие от историко-философских изысканий, поставляющих объективную информацию о реалиях догматических и текстуальных параллелизмов философского наследия Востока и Запада, культурфилософский анализ выступает непосредственно как техника интерпретационного проектирования. В многообразии эмпирических данных философия культуры открывает коммуникативные возможности, обнаруживает такие сцепления этих данных, при посредстве которых можно было бы «заземлить» некие витающие в воздухе запросы и проблемы культурного диалога Востока и Запада. Упомянутая работа «Дзэн и Библия» не вполне удовлет- воряет такому подходу. Интерпретации К. Кадоваки, частично повторяясь, образуют единый варьирующийся текст, или метатекст, отмеченный напряжением между двумя планами: планом экзотерическим, научно-гуманитарным, и эзотерикой, окутывающей компаративистскую схематику аурой метафизического контекста. Настоящая статья опирается на конкретный анализ текстуальных параллелей и связана с выдвижением диагнозов и прогнозов, которые можно рационально поддерживать или опровергать.
В Нагорной проповеди Христос произносит суровые слова, характеризующие ригористичность христианской морали: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (от Матфея 5:29–30). К. Кадоваки обратил внимание на то, что дзэнский коан «Гутэй отсекает палец» выглядит без преувеличения как иллюстрация к душеспасительной формуле Христа1. Данная история имеет следующий вид.
«Какой бы вопрос о дзэн ему ни задавали, Гутэй просто показывал палец. Однажды у него был прислужник, которого посетитель спросил:
– Что главное в учении Мастера?
Мальчик показал ему палец. Увидев это, Гутэй отсек ему палец ножом. Когда мальчик, крича от боли, бросился вон из комнаты, Гутэй окликнул его. Когда мальчик повернул голову, Гутэй показал ему палец. Мальчик внезапно достиг просвет-ления»2.
К. Кадоваки следующим образом интерпретирует коан: «Был ли расчет в действиях Гутэя, когда он отсек юноше палец? Или это сострадание заставило его проявить находчивость и молниеносным движением отхватить палец? Ответ очевиден. Нам только не следует впадать в заблуждение и забывать о том, что в тот момент, когда Гутэй отрезал палец, он и юно- ша представляли собой единое целое, они были нераздельны друг от друга. Палец юноши был в то же время его, Гутэя, пальцем. Просветление дзэн состоит в том, что ты всем своим “телом” осознаешь, что все вещи исходят из одного источника и что твое “Я” едино со всем сущим»3. Такую же метафизическую интерпретацию в терминах холизма и недуальности К. Кадоваки дает и словам Христа.
В этой традиции К. Кадоваки, Р. Блайс и другие переписывают ситуацию так, что из коана вполне отнимается конкретное наставническое измерение. Онтологические ориентации подобного рода компаративистики нуждаются в критическом преодолении. Коан есть, прежде всего, учебный прием, его содержание носит этический, долженствовательный характер. Метафизическое толкование Р.Х. Блайса и К. Кадоваки проходит не по столбовой линии дзэнского дискурса, а, скорее, скользит по периферии.
Коан действительно направлен на мистическую трансформацию сознания адепта, но топика описания этой трансформации не имеет ничего общего с постижением Абсолюта и особым видением трансцендентной реальности. Паттерн принципиальной неэксплицируемости сущности дзэн входит в очевидное противоречие с богословскими и миссионерскими задачами данного религиозного учения. Всякий коан должен иметь очевидный смысл и нарративную аранжировку притчи со свойственной ей простой логикой.
Слова Христа помогают понять цель коана «Гутэй отсекает палец». У каждого мастера был особый, эксклюзивный прием, показывающий неофитам ограниченность их представлений о смысле религиозного опыта. Приемом Гутэя было показать палец. Указание на объект есть такой же стандартный пример дефинициеподобной операции, как восполняющий вопрос – пример из арсенала рациональной методологии познания. Однако данной методологии недостаточно для экспликации сущности учения дзэн, что и демонстрирует Гутэй своим ответом. «Когда мудрец показывает на Луну, глупец видит лишь палец мудреца», – гласит восточная пословица. Ученик или просто кто-то, интересующийся смыслом дзэн, своим вопросом предполагал возможность буквально «ука- зать» на главное в учении дзэн, но в данном контексте восполняющий вопрос является некорректным, что иронично и обыгрывалось Гутэем. «Вы хотите увидеть не Луну, а только палец, вот я вам его и продемонстрирую», – именно так, вероятно, следует понимать действия мастера. Прислужник же подражал Гутэю чисто механически, не осознавая истинного значения данного приема. То есть, возможность ответить на сложный вопрос, просто подняв палец, оказалась для него опасным искушением подменить проповедь религиозной догмы парадоксальными, но поверхностными и бессодержательными манипуляциями с текстами, обычаями, ритуалами.
Следующий коан внешне может показаться нарочито абсурдным и не поддающимся логике. «Хогэн из Сэйре вошел в зал, чтобы обратиться к монахам перед полуденной трапезой. Он указал на бамбуковые шторы. В тот же момент два монаха подошли и подняли их. “Один имеет, другой нет”, – сказал Хогэн»1. Коаны, подобные по структуре данному, встречаются в сборниках дзэнских историй неоднократно. Сопоставление с Библией показывает, что нарушение формально-логических правил здесь мнимое. В одной из своих проповедей о пришествии Царствия Божьего Христос говорит следующее: «Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут в поле: один возьмется, а другой оставится» (от Луки 17:34–36). Коан имеет близкий по смыслу символический подтекст. Один из монахов достиг просветления, другой нет, и внезапное появление мастера оказывается для них подобным Судному дню для христиан – один взят, другой оставлен (любопытно сравнить с этим слова апостола: «…день Господень так придет, как тать ночью», 1 Фес. 5:1–2). И притча Христа, и коан Хогэна направлены на то, чтобы принудить адептов к постоянной личностной концентрации на поисках религиозного спасения.
Следующий рассматриваемый нами случай представляет собой пример наиболее поразительного совпадения между дзэнским коаном и текстом Библии. Мастер Басо говорил: «Если у тебя есть посох, я тебе его дам. Если у тебя нет посоха, – я его у тебя заберу». В литературе аргументация, сходная по структуре с данной (которая является, заметим попутно, типовой для дзэнских нарративов), признается образцом алогичности. Но так ли это в действительности? Разве являются алогичными и парадоксальными следующие слова Христа: «Итак всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем Моим Небесным» (от Матфея 10:32–33)? Если эта аналогия покажется натянутой, в Библии мы имеем еще более близкий пример идентичной риторической нагруженности текста: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет (от Матфея 13:12). Данная логическая фигура имеет вполне обычный профиль доказательности и совершенно совпадает по своей структуре с рассуждением дзэнского мастера. Коан, скорее всего, нужно понимать так, что всякий, прилагающий личные усилия на пути религиозных исканий, получит поддержку со стороны мастера. Тем же, кто погружен в обыденное, механистическое мировосприятие, наставления пойдут только во вред.
По словам Д.Т. Судзуки, «высшее знание, или “не-знание”… представляет собой нечто, внезапно открывающееся и всецело невыразимое на языке человеческих представлений»2. Множество потенциальных значений, которые можно приписать слову «мистическое», обычно определяется перебором отношений профанное/сак-ральное, экзотерическое/эзотерическое, логическое/интуитивное. Но сама по себе автореферентная маркированность, ме-татекстуальная «выпяченность» над онтологическим и космологическим фоном лежит в основе любого осмысления мистического опыта, что бы конкретно под последним ни подразумевалось. Главная черта мистического фрейма – полная герметичность. Все, что попадает внутрь него, утрачивает знаковую функцию, как мы видели на примере коана «Гутэй отсекает палец». Осознание «семантической девственности» знака и составляет основу механизма мистической трансформации, предлагаемой традицией дзэн-буддизма.