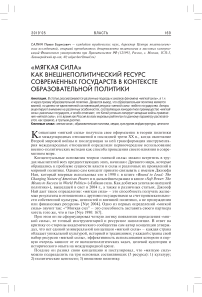"Мягкая сила" как внешнеполитический ресурс современных государств в контексте образовательной политики
Автор: Салин Павел Борисович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные подходы к анализу феномена «мягкой силы», в т.ч. и через призму образовательной политики. Делается вывод, что образовательная политика является важной, но далеко не единственной составляющей ресурса «мягкой силы» любого государства. Авторы акцентируют внимание на различных особенностях, составляющих конкурентное преимущество «мягкой силы» различных государств и особо отмечают, что Китай успешно копирует западные кейсы применения «мягкой силы», в то время как Россия во всех мировых рейтингах по данному параметру располагается, как правило, в третьем десятке.
"мягкая сила", образовательная политика, медиа, культурная инфраструктура, ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/170171006
IDR: 170171006 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6737
Текст научной статьи "Мягкая сила" как внешнеполитический ресурс современных государств в контексте образовательной политики
К онцепция «мягкой силы» получила свое оформление в теории политики и международных отношений в последней трети XX в., когда окончание Второй мировой войны и последующая за ней трансформация инструментария международных отношений определили первоочередное использование военно-политических методов как способа проведения своего влияния в современном мире.
Концептуальные основания теории «мягкой силы» можно встретить в трудах мыслителей всех предшествующих эпох, начиная с Древнего мира, которые обращались к проблеме сущности власти и силы и различных их проявлений в мировой политике. Однако сам концепт принято связывать с именем Джозефа Ная, который впервые использовал его в 1990 г. в книге «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» и в дальнейшем развил в книге «Soft Power: The Means to Success in World Politics» («Гибкая сила. Как добиться успеха во внешней политике»), вышедшей в свет в 2004 г., а также в различных статьях. Джозеф Най дает такое определение: «мягкая сила» – это способность получать желаемые результаты в отношениях с другими государствами за счет привлекательности собственной культуры, ценностей и внешней политики, а не принуждения или финансовых ресурсов» [Nye 2004]. Одно из первых определений «мягкой силы» звучит так: «“Мягкая сил” – это способность заставить своего партнера хотеть того же, что и ты» [Nye 1990: 167].
При этом он не сформулировал четкую логику появления определения «мягкой силы», ее точный инструментарий и ресурсное наполнение. В ответ на критику со стороны академического сообщества сам автор концепции утверждал, что нет единой универсальной концепции «мягкой силы» – каждая страна обладает уникальной культурой, историей и традициями; у каждой страны свой набор ресурсов «мягкой силы», эффективность использования которого в первую очередь зависит от ее внешнеполитических задач, целевой аудитории и исторического опыта на международной арене.
Позднее он развил свою концепцию и постулировал, что «мягкую силу» можно подразделить на три основных составляющих (3 ресурса): 1) культуру; 2) политические ценности; 3) внешнюю политику.
Помимо ресурсов, в рамках концепции «мягкой силы» выделяют также инструменты, использование которых может сделать вышеуказанные ресурсы более или менее эффективными. К таким инструментам Дж. Най относит публичную дипломатию, радио- и телевещание, программы обменов, содействие развитию, ликвидацию последствий стихийных бедствий, сотрудничество между вооруженными силами [Nye 2009]. При этом сам Дж. Най считал наиболее эффективным инструментом «мягкой силы» программы профессиональных и международных академических обменов. Также он отмечал, что в использовании инструментов «мягкой силы» вообще и данного инструмента в частности государство постепенно утрачивает свою монополию.
В соответствии с изложенной выше гипотезой о программах обменов как наиболее эффективном инструменте реализации политики «мягкой силы» предлагается один из критериев оценки результативности данного инструмента – не количественный, а качественный. Речь идет не о том, сколько участников той или иной обменной программы приняли в ней участие, а о том, каких успехов они потом добились на профессиональном поприще.
С учетом того, что нельзя дать точное определение содержания «мягкой силы», принято считать, что в каждой стране формируется ее собственный, национальный вариант, базирующийся на ее политических, экономических и социокультурных особенностях. Например, условно, в отношении США – это «мощь», в отношении Европы – «привлекательность социальной модели», в отношении Китая – «мудрость», Индии – «утонченность», Востока как цивилизационного центра вообще – «мистическая привлекательность».
Существуют различные рейтинги «мягкой силы» различных государств, которые, конечно, носят условный характер, т.к. вызывает вопросы обоснованность отбора параметров для их составления, а также объективность оценки. В целом различные рейтинги учитывают 5 основных параметров (именно в такой последовательности): 1) бизнес/инновации; 2) культура; 3) государственное управление; 4) дипломатия; 5) образование.
Лидерами различных рейтингов «мягкой силы» являются США и Великобритания, среди незападных государств – Китай, хотя обычно он входит в конец второй – начало третьей десяки списка. В рамках данного исследования представляется целесообразным дать краткий обзор практик этих государств в анализируемой сфере.
Что касается лидера всех рейтингов – США, – то они активно и успешно использовали инструментарий «мягкой силы» задолго до появления самого термина. В частности, концепция продвижения американского образа жизни была разработана еще в начале «холодной войны». В США существуют государственные учреждения в американском правительстве, цель которых – продвигать «мягкую силу» США, среди них – Бюро по делам образования и культуры ( Bureau of Educational and Cultural Affairs ) и Агентство США по международному развитию ( USAID ).
Бюро по делам образования и культуры как раз делает упор на образовательные программы, разновидностей которых существует более десяти. При этом важнейшей составляющей этих программ, по которым в т.ч. и оценивается их эффективность, является поддержание обратной связи с выпускниками и отслеживание их карьерной траектории.
При этом образовательная сфера – далеко не единственный инструмент реализации «мягкой силы» США. Заметным конкурентным преимуществом данной страны является наличие каналов коммуникации, которые позволяют транслировать нужные месседжи по всему миру. Следует отметить, что к таким каналам относятся не только СМИ, но и другие разновидности носителей, такие как поп-культура, киноиндустрия и многие другие.
В целом можно выделить следующие конкурентные преимущества США, которые выделяют их на фоне других лидеров рейтингов и позволяют с большей эффективностью проводить политику «мягкой силы»: 1) наибольший среди всех рейтингуемых стран объем финансирования; 2) совокупная военно-политическая и экономическая мощь; 3) относительная длительность присутствия в странах – объектах воздействия; 4) комплексность использования инструментов «мягкой силы», размытость границ между государственными и формально негосударственными инструментами; 5) гибкость администрирования системы проведения «мягкой силы», что выгодно отличает США от других западных стран, также занимающих лидирующие позиции в рейтингах. Например, администрация американских организаций, отвечающих за реализацию политики «мягкой силы», обладает широкими полномочиями по корректировке приоритетов расходования бюджетов в течение финансового года, хотя общий их объем утверждается сторонними органами государственной власти (например, конгрессом).
Что касается Великобритании, то она занимает устойчивое 2-е место после США по всем параметрам применения «мягкой силы». В частности, она находится на втором месте после США по числу иностранных студентов, обладает второй по масштабу после американской глобальной гуманитарной инфраструктурой (помимо телеканалов, это индустрия развлечений и т.п.). Также власти Великобритании умело используют свои особенности культурной и политической жизни, позиционируя их в качестве преимуществ. Например, широко известно, что Великобритания – это монархия, и подробности из жизни монарших особ устойчиво занимают лидирующие позиции в мировой информационной повестке, причем на реализацию этой задачи работают не только британские, но и американские СМИ, а также медийно-культурная инфраструктура других западных государств.
С одной стороны, по этому и другим параметрам Великобритания пересекается с США в области позиционирования и использования инструментов «мягкой силы». Помимо СМИ, это и культура, в частности поп-музыка. Однако есть сферы, в которых Лондону удалось добиться уникального позиционирования. Например, это спорт, прежде всего футбол, – в Великобритании базируется большинство команд с наиболее капитализированными брендами.
Кроме того, Великобритания вообще и Лондон в частности позиционируются как наиболее привлекательная юрисдикция для проживания богатых людей со всего мира. Например, в Лондоне расположены офисы 4 из 6 крупнейших в мире юридических и финансовых фирм, специализирующихся в т.ч. на обслуживании физических лиц премиум-сегмента и управлении семейным капиталом.
Следует отметить, что Великобритания в сфере использования инструментов «мягкой силы» имеет даже больший исторический опыт, чем США. Если Вашингтон начал активно применять такой инструментарий лишь после Второй мировой войны – после своего окончательного выхода на арену мировой политики в качестве одной из доминирующих держав, – то Великобритания – примерно на 20 лет раньше. В частности, в 1932 г. в стране была образована Национальная общественная корпорация Би-Би-Си. Вторая мировая война послужила мощным стимулом для ее становления как инструмента «мягкой силы» Лондона. Так, если в 1939 г. на иностранную аудиторию в Би-Би-Си работали около 100 сотрудников, то к 1945 г. их число выросло до примерно 1 500. Если к 1940 г. корпорация вещала на 34 иностранных языках, то к 1945 – на 45. Другой институт проецирования «мягкой силы» Великобритании – Британский совет – также был основан до Второй мировой войны – в 1934 г.
Следует отметить еще две особенности использования «мягкой силы» Великобританией.
-
1. Формальный распад Британской империи не стал причиной сворачивания этого инструмента, а, наоборот, придал его использованию новый импульс. «Мягкая сила» стала одной из основных скреп, сдерживающих Британское содружество, а также активно использовалась его членами для проведения своей внешнеполитической линии.
-
2. «Мягкая сила» рассматривается британскими властями с гораздо более коммерциализированных позиций, чем американскими. Если в США не ведется жесткий учет корреляции потраченных на «мягкую силу» средств и полученной в результате ее применения коммерческой прибыли (априори считается, что это коммерчески себя окупает), то британские власти жестко заточены на «самоокупаемость» отдельных инструментов «мягкой силы». Например, ведется жесткое бюджетирование экспорта образования, подсчитывается рентабельность расходов на продвижение британского образования за рубежом.
Китай, хотя он и не лидирует в рейтингах «мягкой силы» (сами они во многом также являются таким инструментом, т.к. составляются западными институтами), за последние 20 лет достиг серьезного прогресса в данном направлении. Отчасти это обусловлено успешным копированием западных достижений в области гуманитарных технологий, отчасти – умелой адаптацией китайской специфики и национальных традиций к современным условиям.
Пекин объективно столкнулся с необходимостью активизации работы по линии «мягкой силы» в нулевых годах, когда его растущая экономическая и военная мощь вызвали серьезные опасения у географических соседей, в т.ч. связанные и с историческим реваншем (у Китая с большинством соседей по АТР очень долгая и сложная история взаимоотношений).
Официально власти КНР заявили об активном применении политики «мягкой силы» в 2007 г., но предварительная экспертно-аналитическая работа велась на протяжении минимум 15 лет: с начала 1990-х гг. по данной тематике было опубликовано (в открытом доступе) несколько сотен исследований.
В целом, Китай с точки зрения методологии копирует инструментарий «мягкой силы», успешно апробированный западными игроками. В частности, это создание глобальной сети СМИ (например, агентство «Синьхуа»), а также образовательные проекты (сеть институтов Конфуция за рубежом). Однако можно выделить и несколько особенностей.
-
1. Объем средств, выделяемых Китаем на конкретные направления проведения политики «мягкой силы», иногда на порядки превышает аналогичные бюджеты западных стран. Так, например, на продвижение своего публичного имиджа КНР тратит около 10 млрд долл. в год, в то время как США на программы публичной дипломатии – менее 1 млрд.
-
2. Китай в большей степени, чем США и Великобритания, уделяет внимание культурным аспектам «мягкой силы», пользуясь тем, что история китайской цивилизации гораздо древнее западноевропейской, и тем более американской. Институты Конфуция заточены, прежде всего, под реализацию культурных, а только потом – образовательных программ.
-
3. Китай при реализации политики «мягкой силы» за рубежом в гораздо большей степени опирается на свои диаспоры в странах-объектах, чем западные государства.
Подводя итог краткого обзора, необходимо отметить, что конкретный инструментарий «мягкой силы» в целом носит универсальный характер, но исторические и культурные особенности каждой применяющей его страны позволяют по-своему отрегулировать их баланс и расставить акценты. Также следует отме-

тить, что Россия в мировых рейтингах лидеров «мягкой силы» входит, как правило, в третью десятку стран, при этом, в отличие от Китая, не демонстрируя позитивную динамику.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
Список литературы "Мягкая сила" как внешнеполитический ресурс современных государств в контексте образовательной политики
- Nye J., Jr. 1990. Soft Power. - Foreign Policy. No. 80. Twentieth Anniversary (autumn). P. 153-171
- Nye J., Jr. 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs. 192 p
- Nye J., Jr. 2009. Get Smart: Combining Hard and Soft Power. - Foreign Affairs. Vol. 88. No. 4. July/August. P. 160-163