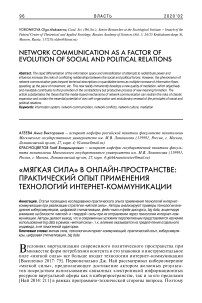«Мягкая сила» в онлайн-пространстве: практический опыт применения технологий интернет-коммуникаций
Автор: Агеева Анна Викторовна, Красноцветов Глеб Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию практического опыта применения технологий интернет-коммуникации при реализации стратегии «мягкой силы». Авторы анализируют примеры технологии внедрения киберсимулякров, цифровой стигматизации, фейк-ньюз и фейк-дискурса, big data, акцентируя внимание на близости «мягкой» и «твердой» силы при их отправлении через технологии интернет-коммуникации. Авторы делают вывод, что в современных условиях перспективным представляется изучение использования big data в рамках «мягкой силы», т.к. влияние оказывается на предпочтения отдельного индивида, а не гомогенной аудитории.
Мягкая сила, технологии интернет-коммуникаций, практический опыт, киберсимулякры, цифровая стигматизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170171383
IDR: 170171383 | DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7140
Текст научной статьи «Мягкая сила» в онлайн-пространстве: практический опыт применения технологий интернет-коммуникаций
Вусловиях виртуализации современного политического пространства при множестве форм потребления контента и его упаковки в инструментальное поле «мягкой силы» все больше входят технологии интернет-коммуникации [Василенко 2017: 75]. Первоначально Дж. Най рассматривал киберизмерение «мягкой силы», предполагающее достижение актором желаемых результатов посредством использования связанных электроникой информационных ресурсов виртуальной сферы как в киберпространстве, так и за его пределами [Най 2014: 211] в рамках программно-технической стороны вопроса. Поэтому коммуникационная составляющая у него свелась к ограничению (предоставлению) доступа к тем или иным информационным ресурсам. В рамках настоящей статьи мы предлагаем дистанцироваться от технического понимания интернет-коммуникации, связанного с процессами «доставки» «мягкой силы», в пользу ее самостоятельного значения, где на первый план выходят информирование, значимость для целевой аудитории канала коммуникации и сам коммуникационный акт, а также в целом система коммуникативных технологий. Иными словами, предлагаем подойти к «мягкой силе» с точки зрения коммуникационно-технологического подхода [Ковба 2017].
В условиях современного информационного общества роль «мягкой силы», символического капитала культуры, непрерывно возрастает [Василенко 2019: 21]. Сегодня Интернет становится мощным инструментом проецирования влияния, а реализованные посредством него сетевые технологии становятся важнейшими элементами «мягкой силы», будучи направленными на формирование общественного мнения, конструирование системы ценностей, предпочтений, потребностей и настроений людей в виртуальном пространстве [Русакова, Грибовод 2019]. Интересно заметить, что технологии интернет-ком-муникации придают «мягкой силе» в ряде случаев инверсионный характер, когда происходит утрачивание «мягких» характеристик путем превращения их в «жесткие» инструменты [Русаков 2017]. Например, это может происходить при организации массовых акций через социальные платформы и мессенджеры, когда вариативность организованной активности может находиться в пределах, например, от акций, направленных на социальное созидание, формирование благоприятного имиджа актора-интересанта, укрепление доверия и добрососедства (например, Дни Италии в Москве), до откровенно деструктивных, организованных извне действий, в т.ч. включающих противостояние правоохранительным органам (например, события Арабской весны, протесты в Гонконге 2019 г.). Социальные сети и мессенджеры ускоряют мобилизационные процессы, формируется «умная толпа» [Рейнгольд 2006], которая из виртуального пространства политики переходит в офлайн, но остается в той системе координат и мышления, которые заданы в онлайне.
Особое место в трансляции «мягкой силы» сегодня заняли технология внедрения киберсимулякров [Володенков 2011]. Путем внедрения виртуальных личностей достигается симуляция консолидированных интересов общества, даже если в реальности за ними стоят всего несколько человек. Примером подобного симулякра является кейс «крымчанка, дочь офицера», когда накануне референдума в Крыму оператор ботов опубликовал в мужском профиле пост якобы от лица жительницы Крыма1. В целом киберсимулякры могут относиться и к отдельным фрагментам симулируемой действительности: например, в 2017 г. в сети было распространено фото с саммита «Большой двадцатки», на котором Д. Трамп и Р. Эрдоган якобы прислушивались к президенту России В. Путину. В действительности В. Путина на этом фото не было, его изображение было добавлено с помощью графического редактора, но сама ситуация в сознании многих обывателей была воспринята как реальная2. До недавнего времени в российском политическом PR довольно распространена была практика публикации пророссийских петиций на сайтах зарубежных госорганов. «Успешный» сбор подписей под данными петициями выводил их в заголовки СМИ, фор- мируя требуемые субъекту управления общественные настроения. Указанное также может быть рассмотрено как эффективный пример реализации «мягкой силы» с применением такой технологии интернет-коммуникаций, как внедрение киберсимулякра. В качестве еще одного примера киберсимулякров потенциально могут рассматриваться получившие в последнее время популярность журналистские расследования по открытым источникам, подобные тем, которые проводят Bellingcat, CIT, The Insider (расследования о покушении на Скрипалей, об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине, крушении малазийского боинга в Донбассе и пр.). Вопрос в данном случае сводится не к ангажированности журналистов-расследователей, а к тому, насколько открытые цифровые источники, на которые они ссылаются, являются не фальсифицируемыми и не компрометируемыми. В противном случае мы вновь оказываемся под воздействием киберсимулякров. Важно также отметить, что воздействие всех описанных выше киберсимулякров остается «мягким» лишь до тех пор, пока не раскрыта фальсифицируемая ими действительность и объект манипуляции не осознает оказываемого на него воздействия. Как только происходит разоблачение подобного симулякра, «мягкая сила» в онлайне превращается в «твердую»; в этом, в частности, и проявляется описанное выше свойство инверсии.
Очередным проявлением «мягкой силы» в онлайн-пространстве, связанным с использованием технологий интернет-коммуникации, является цифровая стигматизация [Володенков, Федорченко 2018]. Она приобретает сегодня довольно большое число форм-клише и ярлыков, которые используются в рамках mainstream media , а также на социальных платформах, где, как правило, эти клише и ярлыки облачаются в хэштеги, что не просто позволяет осуществлять маркирование оппонента, ситуации или явления, но и способствует фиксированию количественной поддержки, когда переход по хэштегу показывает число использующих его участников социальной платформы. Примерами цифровых стигматов в рамках инструмента «мягкой силы» может служить введение раздела «Фейки» на сайте МИДа РФ1. Данная мера предпринята для борьбы с искажением имиджа России в иностранной прессе. Ложные публикации в рамках данного инструмента маркируются соответствующей «печатью», в сопроводительных материалах приводится опровержение или корректная информация по теме. В рассмотренном случае также справедливо отметить, что стигматизация и корректировка контента будут находиться в поле «мягкой силы» до тех пор, пока это касается корректировки собственного имиджа. Как только разоблачение fake news будет производиться во внутриполитическом инфополе иностранного государства, применяемые интернет-технологии перейдут в поле «твердой силы».
Фейк-дискурс в онлайн-СМИ активно применяется для корректировки действий стратегических противников. Так, например, в одном из недавних релизов исследовательского центра RAND приводятся «мягкие» меры по дестабилизации политической ситуации в России. Среди них, например, информационная дискредитация электоральной системы России, подрыв международного имиджа России, воодушевление на мирные протесты в России, мотивация к увеличению расходов на оборону и космическую гонку2. Для указанных целей фейки являются неотъемлемой частью коммуникационной стратегии.
Особое внимание в инструментальном применении технологий интернет- коммуникации в рамках «мягкой силы», на наш взгляд, стоит уделить вопросам big data. В политических технологиях уже дважды в глобальном масштабе были продемонстрированы возможности работы с индивидуальными предпочтениями аудитории вместо работы с гомогенными целевыми аудиториями: в предвыборной кампании Д. Трампа, а также в процедуре голосования в Великобритании по поводу выхода из ЕС [Курюкин 2019], когда собранные индивидуальные предпочтения позволили таргетировать месседж на отдельного человека. Социальные сети, ИТ-гиганты оперируют терабайтами персональных данных ежедневно. И даже если оставить вне поля зрения всю совокупность кулуарных договоренностей между боссами таких компаний и властями соответствующих стран, сами по себе имеющиеся возможности таргетинга способны «мягко» достигнуть нужной целевой аудитории. Тренинги и семинары, дни культуры, встречи с известными лицами той или иной страны («мягкая сила» в ее чистом виде) – все это вполне легально может быть распространено через указанный инструмент. Особое значение при этом придается культурным и гуманитарным факторам [Василенко 2018: 39]. И сегодня такая информация транслируется через Интернет, т.к. это максимально дешево, широко по охвату и просто в получении обратной связи.
Исследование опыта реализации «мягкой силы» через технологии интернет-коммуникации имеет важное практическое значение для повышения ее эффективности, в т.ч. в вопросах противодействия «мягкой силе» конкурирующих акторов. Следует признать, что информационно-коммуникационная составляющая «мягкой силы» в онлайне еще недостаточно теоретизирована, а ее измерение и вовсе сводится к показателям экспорта «мягкой силы»1 или уровню развития цифровых технологий, связанных с использованием социальных медиа [McClory 2017]. Практика же применения данной технологии в онлайне существенно шире. При этом особое внимание для предстоящих исследований «мягкой силы», на наш взгляд, стоит уделить ее реализации через технологии big data , сопряженные с воздействием на предпочтения каждого отдельного человека, а значит потенциально более эффективное воздействие.
Список литературы «Мягкая сила» в онлайн-пространстве: практический опыт применения технологий интернет-коммуникаций
- Василенко И.А. 2017. Роль символического капитала культуры в информационном обществе. - Власть. Т. 25. № 7. С. 75-79
- Василенко И.А. 2018. Роль евразийской идеи в формировании политического имиджа России в условиях новых вызовов информационной войны. - Экономические стратегии. № 4. С. 34-40
- Василенко И.А. 2019. Геополитика современного мира. М.: Юрайт. 392 с
- Володенков С.В. 2011. Политическая коммуникация и современное политическое управление. - Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. № 6. С. 22-31
- Володенков С.В., Федорченко С.Н. 2018. Цифровые стигматы как инструмент манипуляции массовым сознанием в условиях современного государства и общества. - Социс. Социологические исследования. № 11. С. 117-123