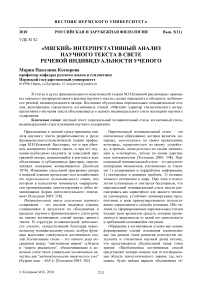«Мягкий» интерпретативный анализ научного текста в свете речевой индивидуальности ученого
Автор: Котюрова Мария Павловна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 5 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье в русле функционально-стилистической теории М.Н.Кожиной рассмотрены принципы «мягкого» интерпретативного анализа научного текста с целью определить и объяснить особенности речевой индивидуальности автора. Последние обусловлены персональным познавательным стилем, включающим совокупность когнитивных стилей. «Мягкий» характер стилистического интерпретативного изучения текста обосновывается в аспекте индивидуального стиля изложения научного содержания.
Научный текст, персональный познавательный стиль, когнитивный стиль, индивидуальный стиль изложения научного содержания
Короткий адрес: https://sciup.org/14728923
IDR: 14728923 | УДК: 81?42
Текст научной статьи «Мягкий» интерпретативный анализ научного текста в свете речевой индивидуальности ученого
Предлагаемые в данной статье принципы анализа научного текста разрабатываются в русле функционально-стилистической теории профессора М.Н.Кожиной. Бесспорно, что и при обычном восприятии (чтении) текста, и при его изучении необходимо следовать за смысловой программой автора, изменяющейся в контексте всех объективных и субъективных факторов, определяющих поведение коммуникантов [Леонтьев 1976]. Изменение смысловой программы автора в немалой степени происходит под воздействием его персонального познавательного стиля , под которым в психологии понимается «иерархически организованная, многосторонняя и гибко изменяющаяся форма интеллектуального поведения» [Холодная 2004: 338].
Индивидуальный стиль изложения научного содержания – это система языковых единиц, сложившаяся в результате их объединения в пределах научного функционального стиля речи на основе когнитивных стилей автора данного текста. В структуре познавательной деятельности ученого, осуществляемой благодаря персональному познавательному стилю, особую функцию выполняет совокупность когнитивных стилей. Когнитивные стили – это «своего рода посредники между “ментальным миром” субъекта и “миром реальности”, обеспечивающие в конечном счете такое уникальное человеческое качество, как “ индивидуальность творческого ума ” (Курсив наш. – М.К. )» [Холодная 2004: 362].
Персональный познавательный стиль – это психическое образование, которое является, во-первых, многомерным по своим проявлениям, во-вторых, иерархическим по своему устройству, в-третьих, интегральным по своим механизмам и, в-четвертых, гибким по своим адаптивным возможностям [Холодная 2004: 348]. Персональный познавательный стиль – это результат интеграции механизмов, соотносимых со стилями 1) кодирования и переработки информации, 2) постановки и решения проблем, 3) познавательного отношения к миру. При этом в психологии установлено и считается бесспорным, что персональный познавательный стиль нельзя рассматривать как характерное для данного человека одномерное, устойчиво доминирующее предпочтение в виде преимущественного использования определенного способа познания. Ибо человек со сформированным персональным стилем владеет всем арсеналом средств, которые проявляются в зависимости от целей его деятельности и требований сложившейся ситуации.
Обращение к когнитивным стилям как основе формирования стилей изложения вдохновляет нас (на данном этапе развития психологии интеллекта и стилистики научной речи) потому, что представляется убедительной такая точка зрения: «Проблематика когнитивных стилей представляет интерес именно как та потенциальная область психологического знания, где, возможно, будет найден вариант объединения об-
щепсихологического и дифференциальнопсихологического аспектов изучения человеческого интеллекта с выходом на понимание природы индивидуального ума» (Курсив наш. – М.К. ) [Холодная 2004: 11-12]. Рассуждая аналогично мысли психолога, можно считать, что для описания коммуникативно-познавательной деятельности ученого окажется продуктивным понятие, объединившее общие функциональностилистические и индивидуальноспецифические, контекстуальные, параметры научной письменной речи, – понятие индивидуального стиля изложения научного содержания.
Разумеется, что нельзя разделить общее и частное, социальное и индивидуальное в онтологическом отношении (как сущее), однако в гносеологическом – можно подвергнуть анализу, синтезу и другим ментальным операциям любые явления действительности, языка и мышления. И все это обусловливает именно «мягкий» интерпретативный анализ речевой индивидуальности ученого, пребывающего в постоянном процессе производства нового знания.
Когда мы говорим о научном знании «вообще», «в целом», мы в высшей степени обобщаем это понятие, тем самым максимально его упрощая. Научное знание зафиксировано в тексте всегда фрагментарно, сегментированно, лишь частично, хотя в форме динамической целостности. Эту смысловую целостность, «результативность» можно, в свою очередь, дифференцировать, реконструировать, интерпретировать, т.е. выявлять в тексте его смысловую структуру. Реконструируя смысл, который автору необходимо было выразить, на наш взгляд, можно проникнуть в творческую лабораторию ученого, создающего текст персональный, неповторимый и вместе с тем доступный восприятию и пониманию читателя. Иначе говоря, можно «заглянуть» в индивидуальную лабораторию мышления и речи ученого. Функциональная стилистика вплотную подошла к возможности поставить эту проблему.
Вместе с тем проблему индивидуального стиля письменной речи ученого можно считать хотя и поставленной, но неизученной, поскольку не определены единицы анализа, не решен вопрос о приемах получения научных фактов относительно индивидуального стиля изложения научного содержания.
Исходя из того, что основным содержанием научного текста является научное знание, не только усвоенное и присвоенное автором, но и развиваемое им самим, легко видеть первую принципиальную трудность в разграничении познавательной триады. Она объединяет «мир по- знанного», т.е. уже известного (старого) знания о действительности, «мир познаваемого», представляющего собой «незнаемое», и новую целостность (либо конгломерат, совокупность) – идеальное знание, гармонично сочетающее в себе фундамент (старое знание) – область поиска проблемы, сформулированную проблему, гипотезу ее решения, теоретическую и эмпирическую аргументацию, выводное знание.
Вторая принципиальная трудность связана с определением исследовательской задачи – очертить контуры проявления авторской индивидуальности в научном мышлении, позволяющие более или менее определенно сконцентрировать внимание на соответствующей речевой индивидуальности автора научного произведения. Ограничение совершенно необходимо уже потому, что всем известно: «стиль – это человек»; человеческое, т.е. субъективное, пронизывает, охватывает, обволакивает, покрывает «флером» интеллектуальных, эмоциональных всплесков предмет рассмотрения – репрезентирует свое «Я» абсолютно во всем тексте.
Действительно, можно сказать, что предмет изучения объективен, поскольку соотнесен с действительностью, наблюдаемой органами чувств или представленной в мышлении. Однако это, во-первых, «мой» интеллектуальный мир, ну, хотя бы мир «моей» мысли! Во-вторых, это «мои» предметы познаваемой деятельности. В-третьих, это «Я» и Другие, т.е. «мой» диалог с единомышленниками и оппонентами. В-четвертых, это «моя» «наука в лицах», т.е. предшественники, современники, коллеги, ученики, возможные последователи. Все это можно отнести к первому кругу факторов, оказывающих сильное воздействие на репрезентацию речевой индивидуальности ученого.
Углубляясь в мир языковой личности автора научного текста, несомненно, нельзя не заметить влияния одного из доминирующих стилей мышления – дискретно-логического, континуальнопсихологического, критического либо метафорического и др., которые во взаимодействии с вышеназванными факторами являются источником порождения все новых композиционностилистических особенностей текста.
Кроме того, к ярким, сильнодействующим факторам влияния на идиостиль автора можно отнести эгоцентрический или полицентрический тип коммуникации, а также интровертированный или экстравертированный тип личности ученого. Сложнейшая картина экстралингвистической, точнее, внеязыковой, обусловленности индивидуального стиля изложения научного содержания требует ограничений, чтобы представить ее в виде схемы – достаточно простой, но позволяющей «увидеть» экстралингвистическую основу речевой индивидуальности ученого. Кстати, такие ограничения определенно свидетельствуют о гибкости, эластичности анализа текста.
Так, первое ограничение соотносим с задачами исследования:
– описать – контурно – доминирующие свойства текста в рамках соответствующих функционально-семантических категорий;
– объяснить наличие этих свойств, т.е. установить причину формирования данных особенностей текста.
(Очевидно, что исследователь может либо ограничиться одной из задач, либо поставить цель не только описать свойства текста, но и объяснить причины их формирования.)
Второе ограничение мы соотносим с диффузным комплексом свойств целостного текста. Поскольку критериям научности соответствует прежде всего текст в жанре монографии, то исследователь не может не отдавать предпочтения именно целостному монографическому произведению. Вместе с тем объемность и содержательная сложность этого жанра вынуждает ограничить текстовый материал для анализа лишь фрагментами текста – комплексами сверхфразовых единств, применяя «локальную интерпретацию текста» [Болотнова 2008: 98]. Понятно, что всякая локальная интерпретация относительна в силу того, что каждое отдельное лишь частично отражает общее. В связи с этим особенно важно то, что для последующей интерпретации имеет значение характер «строевых элементов смыслов» [Топорова 2008: 89], причем смыслов не только линейных фрагментов текста, но и таких ментальных единиц, как свойства текста, в функциональной стилистике интерпретируемые как функционально-семантические стилистические категории либо текстовые категории, а также концепты, выявленные в когнитивной лингвистике. В текстах такие категории репрезентируются различными по составу и функциональной значимости языковыми и собственно речевыми единицами, причем с разной степенью плотности распределения. Тем самым автор реализует собственный, индивидуальный, стиль изложения, а исследователь имеет возможность выявить доминирующие свойства текста и тем самым определить речевую индивидуальность автора. Решение проблемы индивидуального стиля изложения в рамках категориальной стилистики обнажает связь функциональной стилистики и когнитивной лингвистики. Действительно, единицы рассмотрения: функциональносемантическая стилистическая категория и тек- стовая категория в функциональной стилистике, концепт в когнитивной лингвистике – представляют собой ментальные единицы, репрезентированные в речи языковыми единицами и композиционно-текстовыми единицами. Разумеется, что описание какой-либо одной ментальной единицы, например, категории логичности, связности, оценочности и др., может привести к определению речевой индивидуальности автора в отношении формирования (использования) именно этой категории. Однако, на наш взгляд, только «связка», блок свойств, причем не всех вообще, а именно для данного случая отобранных и синтезированных в контексте, дает возможность читателю (исследователю) раскрыть способность к пониманию текста как полипараметрального конструкта, вычленению из этого конструкта определенного среза, фиксированию в сознании синтеза основных (доминирующих) и факультативных компонентов среза текстовой материи.
В пользу «мягкого» интерпретативного анализа речевой индивидуальности ученого говорит и то, что эффективная научно-познавательная коммуникация предполагает овладение глубинным концептуальным богатством произведения высокой научной ценности. Как известно, научные произведения в жанрах монографии и теоретической статьи характеризуются многомерностью интерпретации. Так, восприятие научных текстов может осуществляться в рамках познания концептуальной системы текста [Павиленис 1983: 5], т.е. в субъектно-объектной парадигме, либо (кроме того) в рамках понимания, т.е. в субъектно-субъектной парадигме. Действительно, «будучи интерсубъектным способом мышления, понимание позволяет изучить индивидуально-личностные и неповторимые черты объектов познания, культуры, общения» [Шилков 1992: 175]. Поэтому пониманию научного текста может способствовать учет стиля мышления ученого.
В современном науковедении, а вслед за тем и в функциональной стилистике новое знание понимается в единстве объективного и субъективного. Мы исходим из «принципа субъекта» как основы объяснения процесса понимания, поскольку продуктивная интерпретация создается прежде всего наличием разных интерпретационных позиций, а не достигается универсальными принципами «в соответствии с внеличностными, объективными и заранее установленными критериями» [Лурия 1979: 113].
В аспекте когнитивного моделирования можно схематично представить научный текст как совокупность его свойств (категорий), членимых на диффузные, однако функционально связанные
(не по воле исследователя!) комплексы категорий, обусловленных познавательным процессом. Эти комплексы категорий включают устойчивые и воспроизводимые когнитивные связки определенных категорий, а также совокупности языковых единиц, соответствующих этим категориям. Таким образом, аналогично наличию в сознании сложных и динамичных ментальных композиций, получивших название «концептуальносемантических блоков» [Топорова 2008], можно говорить о наличии в сознании как читателя, так и исследователя таких сложных ментальных композиций, которые целесообразно назвать особыми категориально-семантическими блоками. Целесообразность этой номинации обусловлена методологически: сама ментальная единица содержательно соотносится с другой, уже рассмотренной ментальной единицей – концептуально-семантическим блоком, поэтому мы и предлагаем не совершенно новую номинацию, а системно-терминологически соотносимую с предшествующей. Это важно еще и потому, что способствует минимизации концепции, тем самым обеспечивая определенную простоту и доступность восприятия терминосистемы.
Третье ограничение связано с единицей лингвистического анализа , которой является текстовая категория, дискретно и с разной «плотностью» представленная в тексте различными языковыми единицами – маркерами категории. Текстовая категория определяется в «Стилистическом энциклопедическом словаре» как «один из взаимосвязанных существенных признаков текста, представляющий собой отражение определенной части общетекстового смысла различными языковыми, речевыми, собственно текстовыми (композитивными) средствами» [СЭС 2003: 533].
Обращение к текстовым категориям (а не языковым или, напротив, другим текстовым единицам) целесообразным представляется по следующим причинам. Во-первых, текстовая категория понимается как «объективное свойство системного речевого явления и деятельностно значимое качество этого явления (курсив наш. – М.К.)» [СЭС 2003: 534]. Во-вторых, это объективное свойство текста соотносится с тем или иным экстралингвистическим фактором, действующим законообразно, т.е. независимо от субъекта речи. Это делает возможным предположение о репрезентации текстовых категорий в любом тексте, а не специально подобранном. Вместе с тем важно заметить, что данные категории характеризуются разной степенью выраженности в тексте (что установлено нашими предшественниками при анализе многих текстовых катего- рий). Поэтому естественно, что обычно иллюстративный материал фиксирует ту или иную анализируемую категорию «на пике славы», когда она доминирует над другими категориями. Мы отходим от этого «правила» и рассматриваем конфигурации текстовых категорий в естественных условиях – реальных фрагментах. В-третьих, категориально-текстовый подход – это гибкий, можно сказать, эластичный, подход к изучению и описанию текста. Он предполагает применение различных познавательных процедур в отношении формы и содержания явлений, например, процедур, приводящих к выявлению структуры категории. Современный опыт познавательной деятельности располагает различными приемами моделирования абстрактных конструктов (к ним относится понятие текстовой категории). Постоянное обогащение состава познавательных приемов позволяет расширять наши представления о тех или иных явлениях, в то время как применение приемов, ставших стереотипными в познании определенных явлений, дает возможность уплотнять полученные факты и тем самым формировать новое научное знание. При этом интересно взаимодействие приемов моделирования, нередко в пределах закона дополнительности, приводящее к получению объемного знания об абстрактном (в виде модели) конструкте.
Итак, текстовую категорию можно трактовать: как свойство текста – при феноменологическом (содержательном) рассмотрении последнего; как модель (конструкт), обусловленную познавательной установкой субъекта познания (автора) – отсюда и форма конструкта, и степень его сложности, и характер соотношения с другими конструктами, и т.д.; как единицу анализа, «несущую в себе основные свойства целого, а именно его целенаправленность и композитив-ность» [СЭС 2003: 534]. Такая методологическая насыщенность понятийной универсалии текстовой категории раскрывает объемное пространство потенциальной эпистемической ситуации, связанной с индивидуальным стилем изложения научного содержания.
Множество средств, репрезентирующих ту или иную текстовую категорию, тем более если речь идет о совокупности текстовых категорий, потенциально может образовать открытые совокупности (точнее, конфигурации) этих средств. Формирование в тексте, даже его фрагменте, категориально-семантических блоков создает предпосылки для исследования авторского индивидуального стиля изложения (на определенном уровне абстрагирования от конкретных языковых единиц).
Четвертое ограничение относится к методу исследования материала. Методическая сложность анализа индивидуального стиля речи ученого в текстах монографий – с учетом целостного представления текстовых категорий – вынуждает нас обратиться к комплексному интуитивному «мягкому» методу , включающему читательское наблюдение, мысленный эксперимент по замене языковых единиц, мысленное обобщение и, на выходе, иллюстративную репрезентацию.
Professor of Russian Language and Stylistics Department
Perm State University
Список литературы «Мягкий» интерпретативный анализ научного текста в свете речевой индивидуальности ученого
- Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. 384 с.
- Леонтьев А.А. Предисловие//Д.Слобин, Дж.Грин. Психолингвистика/пер. с англ. Е.И.Негневицкой; общ. ред. и предисл. А.А.Леонтьева. М.: Прогресс, 1976. 336 с. URL: http://www.pedlib.ru/Books/3/0009/3_0009-6.shtml>.
- Лурия А.Р. Язык и сознание/под ред. Е.Д.Хомской. М.: Изд-во МГУ, 1979. 320 с.
- Павиленис Р.И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка. М.: Мысль, 1983. 286 с.
- СЭС -Стилистический энциклопедический словарь русского языка/под ред. М.Н.Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003. 696 с.
- Топорова В.М. Концептуально-семантический блок как единица лингвистического описания//Международный конгресс по когнитивной лингвистике: сб. материалов/отв. ред. Н.Н. Болдырев. Тамбов, 2008. С. 89-91.
- Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 384 с.
- Шилков Ю.М. Гносеологические основы мыслительной деятельности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. 183 с.