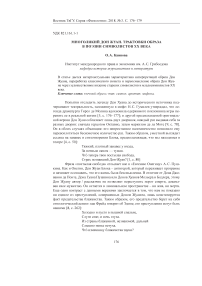Многоликий Дон Жуан. Трактовки образа в поэзии символистов XX века
Автор: Каинова Ольга Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье дается интертекстуальная характеристика интерпретаций образа Дон Жуана, переработка классического сюжета и переосмысление образа Дон Жуана через художественное видение старших символистов и младосимволистов XX века.
"вечный образ", тип, символ, архетип, мифема
Короткий адрес: https://sciup.org/146281282
IDR: 146281282 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Многоликий Дон Жуан. Трактовки образа в поэзии символистов XX века
Попытки отследить легенду Дон Хуана до исторического источника подчеркивают театральность, заложенную в мифе: Н. С. Гумилев утверждал, что легенда драматурга Тирсо де Молина вдохновила одержимого поклонника игры перенять ее в реальной жизни [5, с. 176–177]; в другой предполагаемой оригинальной версии Дон Хуан соблазняет лишь двух дворянок, каждый раз выдавая себя за разных дворян: сначала герцогом Октавио, затем маркизом де ла Моте [9, с. 78]. Он в обоих случаях обманщик: его непрестанное паломничество позволило ему перевоплотиться бесконечное количество раз. Таким образом, уместной выглядит ссылка на занавес в стихотворении Блока, предполагающая, что мы находимся в театре [4, с. 50]:
Тяжкий, плотный занавес у входа, За ночным окном — туман.
Что́ теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан? [1, с. 80]
Фраза «постылая свобода» отсылает нас к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина. Как и Онегин, Дон Жуан Блока – антигерой, который переживает прозрение и начинает осознавать, что его жизнь была бессмысленна. В отличие от Дона Джованни да Понте, Дона Гуана Пушкина или Донов Хуанов Мольера и Бодлера, этому Дон Жуану автор / рассказчик не позволяет переступить порог смерти, доказывая свое мужество. Он остается в лиминальном пространстве – ни жив, ни мертв. Еще один контраст с данными версиями заключается в том, что нам не показано ни единое из преступлений, совершенных Доном Жуаном, лишь констатируется факт предательства блаженства. Таким образом, его предательство берет на себя онтологический аспект: как Фрейд говорит об Эдипе, его преступления могут быть нашими [8, с. 262]:
Холодно и пусто в пышной спальне, Слуги спят, и ночь глуха.
Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха.
Что́ изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены.
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, Донна Анна видит сны.
Пролетает, брызнув в ночь огнями, Черный, тихий, как сова, мотор, Тихими, тяжелыми шагами В дом вступает Командор…
Настежь дверь. Из непомерной стужи, Словно хриплый бой ночных часов – Бой часов: «Ты звал меня на ужин.
Я пришел. А ты готов?..» На вопрос жестокий нет ответа, Нет ответа – тишина.
В пышной спальне страшно в час рассвета, Слуги спят, и ночь бледна.
В час рассвета холодно и странно, В час рассвета – ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! – Тишина.
Только в грозном утреннем тумане Бьют часы в последний раз:
Донна Анна в смертный час твой встанет.
Анна встанет в смертный час [1, с. 80–81].
«А ты готов?» – вопрос, заданный в домашней обстановке посреди ночи, сразу напоминает Евангелие от Матфея, а также Евангелие от Луки: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Мф. 24: 42–44); «Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12: 20).
Вопрос о готовности, естественно, напоминает и декларацию Гамлета, акт V, сцена 2 (незадолго до дуэли, которая обрывает его жизнь), что «готовность – это все» [7], в переводе Н. И. Гнедича звучит как «Надо всегда быть готовым». Замечание возникло из ссылки на другой отрывок из Библии – Евангелие от Матфея (10: 29). Пенье петуха во второй строке – еще одно поразительное эхо Священных Писаний, напоминающее тройное отрицание Петром Христа, предсказанное последним в Евангелии от Матфея (26: 33–35), Евангелии от Марка (14: 29-31), Евангелии от Луки (22: 33-34) и Евангелии от Иоанна (13: 36–38); и наставление Христа быть бдительным в Евангелии от Марка (13: 25–37). Любопытно, что три вопроса адресованы Донне Анне, три Дону Жуану, и трижды говорится о холоде, царящем в этот момент, и соответствуют Петру, трижды отрицавшемуся Христа. Предательство Девы Света соответствует тому же предательству, но здесь впервые женская ипостась божественного лишена своего чудовищного аспекта, так как он переходит к Ангелу Отмщения, Командору.
Противоречивая, парадоксальная природа Дона Жуана сделала его очень привлекательным для старшего поколения поэтов-символистов, что подтверждают сонет В.Я. Брюсова и цикл К.Д. Бальмонта на эту тему. Любопытно сравнить стихи Бальмонта (1897) и Брюсова (1900) на тему Дона Жуана со стихотворениями Блока и Гумилева, чтобы увидеть огромную разницу между старшими символистами и младосимволистами. И Бальмонт, и Брюсов вкладывают апологичность в мифическую фигуру как гуманистического пионера, свидетельствуя о величии чувственности («Он видел сон земли, не сон небес») и об огромной множественности человеческих взаимоотношений:
В любви душа вскрывается до дна, Яснеет в ней святая глубина, Где всё единственно и неслучайно. Да! Я гублю! пью жизни, как вампир! Но каждая душа – то новый мир, И манит вновь своей безвестной тайной [2, с. 158].
Этот подход, абсолютно брюсовский в своем непременном технократическом позитивизме, знаком нам по его стихотворениям на математические и металлургические темы: его Дон Жуан проводит большой научный эксперимент, что будет продвигать человеческие знания. З. Н. Гиппиус позднее (в 1926 г.) написала «Ответ Дон-Жуана», в котором она представляет Дон Жуана как искателя идеала: «Дон-Жуан любил всегда одну» [3, с. 505]. Эта контр-традиция, в которой Дон Жуан по крайней мере частично подтверждается как знатный идеалист, как представляется, началась с рассказа Э. Т. А. Гофмана «Дон Жуан», будучи ответом на оперу Моцарта [6, с. 186–256]. Любопытно, что чтение Гиппиус легенды согласуется по своей сути с психоаналитическими чтениями М. Кляйн и О. Ранка. Как видим, Гумилев применяет аналогичную трактовку в другом стихотворении, хотя и не ссылается на Дона Жуана по имени.
About the author:
KAINOVA Olga Aleksandrovna – Postgraduate Student at the Department of Journalism History and Literature, Institute of International Law and Economics named after A. S. Griboyedov (111024, Moscow, Enthusiastov shosse, 21), e-mail: o.kainova@ mail.ru.
Список литературы Многоликий Дон Жуан. Трактовки образа в поэзии символистов XX века
- Блок А. А. Стихотворения: В 3 кн. Кн. 3. (1905-1914). М.: Мусагет, 1916. 272 с.
- Брюсов В. Я. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. Стихотворения 1892-1909. М.: Худож. лит., 1973. 672 с.
- Гиппиус З. Н. Живые лица: воспоминания, стихотворения. М.: Рус. книга, 2002. 700 с.
- Дмитренко С. Ф. О проблематике стихотворения «Шаги командора»//А.А. Блок и мировая культура: мат. науч. конф. (14-17 марта 2000 г.). Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. С. 48-62.
- Одоевцева И. В. На берегах Невы: Литературные мемуары. М.: Худож. лит., 1988. 334 с.
- Актуальные проблемы современной мифопоэтики: уч. пособие. М.: Флинта, 2011. 530 с.
- Шекспир У. Гамлет: Антология русских переводов . URL: http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_hamlet20.txt_with-big-pictures.html. (Дата обращения: 10.12.2017.)
- Freud S. The Interpretation of Dreams. N.Y.: Basic Books, 2010. 677 p.
- Pospiszyl K. Tristan i Don Juan czyli Odcienie milosci mezczyzny w kulturze europejskiej. Warszawa: Iskry, 1986. 164 s.