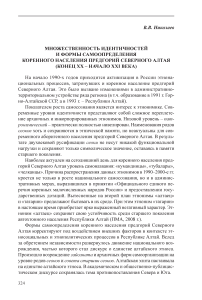Множественность идентичностей и формы самоопределения коренного населения предгорий Северного Алтая (конец ХХ - начало ХХI века)
Автор: Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVII, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521778
IDR: 14521778
Текст статьи Множественность идентичностей и формы самоопределения коренного населения предгорий Северного Алтая (конец ХХ - начало ХХI века)
Наиболее актуален на сегодняшний день для коренного населения предгорий Северного Алтая уровень самоназвания: «кумандинцы», «тубалары», «челканцы». Причина распространения данных этнонимов в 1990–2000-е гг. кроется не только в росте национального самосознания, но и в административных мерах, выразившихся в принятии «Официального единого перечня коренных малочисленных народов России» и предоставлении государственных дотаций. Вытесненные на второй план этнонимы «алтаец» и «татарин» продолжают бытовать в их среде. При этом этноним «татарин» в настоящее время приобретает ярко выраженный негативный характер. Этноним «алтаец» сохраняет свою устойчивость среди старшего поколения автохтонного населения Республики Алтай (ПМА, 2008 г.).
Формы самоопределения коренного населения предгорий Северного Алтая корректируют под воздействием внешних факторов в контексте этносоциальных и этнополитических процессов в Республике Алтай. Вслед за обретением независимости развернулось движение национального возрождения, частью которого стал дискурс о единстве алтайского этноса. Произошло возрождение зайсаната и архаичных форм самоорганизации на уровне родов сеоков и совета старшин сеоков . Алтайская элита настаивала на единстве алтайского этноса. В академическом и общественно-публицистическом дискурсе сохранялась тема противопоставления Севера и Юга.
По мнению одного из ведущих этнографов Алтая Н.А. Тадиной [2006], можно говорить о внутреннем делении алтайского этноса по степени влияния русского фактора. Она выделяет два этностереотипа – «алтай-кижи» (южные алтайцы) и «туба» (северные алтайцы). Первый стереотип обозначает «истинных, настоящих» алтайцев – «су-алтай», «не подвергшихся русскому влиянию и живущих на территории распространения бурханизма» [Тадина, 2006]. Второй стереотип «туба», по мнению Н.А. Тадиной [2006], охватывает тех, кто подвергся «ассимиляции в той или иной степени», «неправильных алтайцев, т.е. маргиналов». Исследовательница отмечает, что для «туба» характерна трансформация общества и быта, утрата родового управления и этнического самосознания.
Актуализация межэтнического противостояния определяет современную ситуацию в Республике Алтай. Противопоставление «мы – они» на уровне алтайской общности является важным фактором самоопределения коренного населения предгорий Северного Алтая.
В настоящее время для кумандинцев, тубаларов и челканцев характерны административные и общественные формы самоорганизации [Тадина, 2009]. В 1992 г. создана «Ассоциация северных алтайцев», в 1993 г. - «Общество возрождения кумандинского народа», в 1997 г. - региональная группа «Кумания» во главе с А. Пелековым, а также общественно-политическое объединение коренных малочисленных народов Республики Алтай и др. [Нечипоренко, Октябрьская, 2003; Кумандинцы…, 2007]. В д. Шатобал была организована Кумандинская национальная сельская администрация. В конце 1990-х гг. появляются самостоятельные организации тубаларов и чел-канцев – «Союз общин коренных народов Турачакского района Республики Алтай», «Возрождение тубаларского народа», общины тубаларов Чойского и челканцев Турачакского районов и т.д. Процесс образования и структурирования общественных организаций продолжается до сих пор. В настоящее время в с. Красногорское Красногорского р-на Алтайского края предполагается учредить самостоятельное кумандинское общество (ПМА, 2010 г.).
Таким образом, у кумандинцев сложились три основных центра возрождения: г. Бийск (пос. Нагорный), с. Красногорское и Кумандинская национальная сельская администрация в Солтонском р-не Алтайского края. Среди тубаларов и челканцев значительную роль играют республиканские организации, от которых зависят районные общины.
Наиболее активны в процессе общественно-политического строительства кумандинцы. Несмотря на отмеченное разнообразие этнонациональных объединений, для них характерна общность программных задач: «Возврат к ценностям и нормам традиционной культуры, сохранение языка коренного тюркоязычного населения региона, отстаивание его интересов в экономической сфере, приоритет коренного населения в решении экологических проблем» [Самушкина, 2009].
При всем своеобразии современных этнических процессов в среде североалтайских этносов, наблюдается заимствование ими основных методов самоутверждения у южных алтайцев. И на Севере, и на Юге особое значение придается возрождению традиций проведения праздников (Jилгаяк и др.) или их конструирование на квазиэтнической основе («Шолак-колак» – «Журчание и гудение рек во время Великого Потопа) [Богатырь, 2007; Официальный..., 2010]. По аналогии с Эл-Ойыном, кумандинцы проводят в разных районах (с. Егона Красногорского р-на Алтайского края – в 2001 и 2003 гг., с. Шатобал Солтонского р-на Алтайского края - в 2002 г., с. Шунорак Ту-рачакского р-на Республики Алтайв – в 2007 г. и др.) ежегодный фестиваль «Байрам», приуроченный к всемирному дню коренных малочисленных народов, а тубалары и челканцы – один раз в два года «Тюрюк Байрам» («Праздник кедра») (ПМА, 2010 г.).
Одной из форм этнического самоопределения является конструирование этнической истории. В частности, можно отметить работу Л.М. Тук-мачева-Соболекова [2001], где изложена легенда о прибытии на Алтай ку-мандинцев во времена Всемирного потопа. В схожем ключе, но с опорой на научную гипотезу о генетической связи современных южносибирских этносов и динлинов, изложена этническая история кумандинцев в рукописи М.В. Кастаракова «Белые кони духов» [Происхождение..., 2010]. Поиском ответа на вопрос «Кто мы - тубалары?» пронизана книга В.Г Кушна-ренко-Суртаевой [2000], в которой этнографические сведения переплетены с квазинаучными.
При изучении современных социокультурных практик коренного населения Алтая Е.В. Самушкина отметила, что «обращение к архаике в реинтерпретации этногенеза современных алтайцев отражает стремление этнической элиты подчеркнуть преемственность в развитии современного этнополитического сообщества Республики Алтай с кочевыми сообществами средневековья» [2009]. «Конструируя» прошлое, североалтайская элита преследует аналогичные цели, выводя кумандинцев из среды динлинов (М.В. Кастараков) или провозглашая, что «тубалары – родичи почти всему миру» [Кушнаренко-Суртаева, 2000].
Таким образом, к началу XXI в. произошла существенная трансформация самосознания автохтонного населения предгорий Северного Алтая. Актуализация этнического самосознания в 1990-е гг и официальное признание статуса коренных малочисленных народов Сибири за кумандинца-ми, тубаларами и челканцами в 2000 г. обострило проблему межэтнических отношений в рассматриваемом регионе. Консолидация северных и южных алтайцев в рамках алтайской государственности остается доминирующей тенденцией этносоциального развития региона. Однако элементы конфронтации по языковому, религиозному и проч. признакам остаются актуальны -ми, задавая параметры самоопределения.
Основной детерминантой динамики самосознания выступает государство, а также этнокультурные контакты с иноэтничным окружением. В условиях нивелирования архаичной традиционной основы самоидентификации североалтайские этносы избрали путь административного возрождения своей культуры и этничности. Создаваемые в настоящее время общественные организации и этнонациональные общины, в будущем могут заменить в функциональном отношении утраченные социальные институты и стать основой возрождения этносов предгорий Северного Алтая.