Мобилизация мировых ресурсов цветковых растений на основе создания систематизированных генетических коллекций
Автор: Жученко Александр Александрович
Журнал: Овощи России @vegetables
Рубрика: Актуальные проблемы, обзоры, итоги сельскохозяйственной науки
Статья в выпуске: 4 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются вопросы изучения и использования генетических ресурсов растений, основы систематизации генофонда по ботаническому, функциональному, морфоанатомическому, физиолого-биохимическому, генетическому принципам. Рассмотрены типы индентифицированных и систематизированных генетических коллекций гендоноров и геноисточников цветковых растений. Показаны пути и методы поиска, идентификации, дифференциации, систематизации и отбора гендоноров и генетических коллекций ценных признаков онтогенетической и филогенетической адаптации, а также их взаимосвязи.
Генетические ресурсы, гендоноры, геноисточники, генколлекции
Короткий адрес: https://sciup.org/14024971
IDR: 14024971 | УДК: 631.523:575
Текст научной статьи Мобилизация мировых ресурсов цветковых растений на основе создания систематизированных генетических коллекций
Генетические ресурсы растений и их использование
Всинтетической теории эволюции (СТЭ) вопрос скорости образования видов остается весьма дискуссионным. Так, считается, что в девонский период господ- ствовали древовидные папоротки, хвощи, древние голосеменные, сплошным ковром покрывая сушу Земли. Цветковые виды растений известны с мелового периода мезозойской эры и достигли наибольшего разнообразия в кайнозойскую эру (четвертичный период). Сравнительное однообразие фло- ры в течение длительных геологических периодов (Скотт, 1914; Любименко, 1924; Комаров, 1944; Майер, 1946 и др.) с появлением цветковых видов растений, которое Дарвин назвал «ужасной тайной», сменилось их распространением с совершенно беспрецедентной скоростью (Шмальгаузен, 1968), что было обусловлено большой их эволюционной пластичностью и необычной способностью к появлению самых разнообразных приспособлений, позволяющих осваивать расширяющиеся аридные зоны суши (Тахта-джян, 1954). При этом периоды существова- ния преобладающих групп растений имели явную тенденцию к снижению (Баранов, 1953). В ускорении темпов видообразования покрытосеменных (цветковых) растений важную и даже первостепенную роль играли эволюция генетических систем преобразования генетической информации, а также формирование функциональных связей между генетическими системами онтогенетической и филогенетической адаптации (Жученко, 1980, 1988, 2010).
По мере продвижения от экватора к обоим полюсам убывает не только число цвет- ковых видов растений, но и интенсивность перекрестного опыления, тогда как в более высоких широтах и особенно на самых северных и южных территориях получают распространение главным образом самосов-местимые виды и апомиктические формы (Агаджанян, 1987). При этом особенности функционирования систем размножения и рекомбинации у высших растений коррелируют с положением видов в экологической нише, определяя таким образом их адаптивный полиморфизм. Так, адаптации, ограничивающие рекомбинационную изменчивость (малое основное число хромосом, облигатная гетерозиготность и др.), наиболее характерны для видов растений умеренного климата, тогда как в тропиках партеногенез и самоопыление встречаются редко (Lewin, 1975), а доля двудомных растений достигает 22-44%, т.е. перекрестному опылению принадлежит здесь решающая роль. Популяции видов, расположенные в центрах формообразования, имеют больший потенциал рекомбинации, чем популяции на окраинах соответствующего ареала.
Совокупность всех генов данной популяции, группы популяций, экотипов или вида в целом составляют генофонд. Всего на Земле произрастает около 300 тыс. видов растений, в т.ч. 250 тыс. цветковых (покрытосеменных) и примерно 50 тыс. голосеменных (хвойных, цикадовых) и папоротников. Из 250 тыс. цветковых травянистых, кустарниковых и древесных видов (Алехин и др., 1957; Вент, 1972 и др.) в культуру было введено по разным оценкам 1000 (Любименко, 1935), 1125 (Купцов, 1975), 2500 (Вавилов, 1940; Кудряшов и др., 1979), 10000 (Купер-ман и др., 1982) пищевых, кормовых, медоносных и технических (прядильных, красильных, лекарственных) видов растений. Считается, что из 1220 видов цветковых растений для пищевых целей используют около 300 видов, лекарственных – 250, для изготовления грубых тканей и канатов – 500, для добычи масел – 120 и каучука – 50 (Нестеров, 1981). В целом же из всего количества окультуренных видов растений широкое распространение получили 250-300, из которых лишь 15-20 сельскохозяйственных культур обеспечивают 90% производства продуктов питания.
На территории бывшего СССР насчитывается примерно 18 тыс. видов высших растений, объединенных в 159 семейств и 1675 родов. Число видов значительно увеличивается от северных к южным широтам страны (с 40 видов на Земле Франца-Иосифа до 1100 в Московской области и 5800 в республиках Северного Кавказа). Заметим, что число видов высших растений, например, в Индии составляет 21 тыс., а в Бразилии – 40 тыс., т.е. резко возрастает с увеличением суммы годовых температур и осадков от полюсов к экватору.
Согласно полному списку диких и культурных видов растений, юдготовленному сотрудниками ВИРа, на территории России произрастает 1680 видов из 170 родов и 48 семейств, 838 из которых приходится на Европейскую часть. Из всего фитогенофонда России лишь 261 вид попадает в число интенсивно используемых. В 93 заповедниках сохранятся 1148 диких родичей культурных видов растений, т.е. 72% от их общего числа (Нухимовская и др., 2005). Информационно-аналитическая система генетических ресурсов, например, пшеницы GRIS состоит из базы данных мирового генофонда этой культуры (более 126000 сортов и линий, а также 1648 генов и аллелей с установленными их локализацией, сцеплением и происхождением) и предназначена для обслуживания программ селекции и генетических исследований (Мартынов, Добруцкая, 2009).
Микосимбиотрофизм высших растений широко распространен и, по данным Селиванова (1981), из 3449 видов растений (относящихся к 160 семействам и 1053 родам) 2697, или 78,1%, являются микотрофными. Главное преимущество симбиотических организмов заключается в их способности процветать в условиях самого скудного обеспечения элементами питания (Назаров, 1981).
При создании генетических коллекций бобовых, находящихся в многокомпонентной связи с полезными микроорганизмами, следует учитывать особенности бобо-во-ризобиального биоза (БРС) с клубеньковыми бактериями различных генетически удаленных друг от друга таксонов (Bradyrhizobium, Меzorhizobium, Rhizobium и многими другими). Высокая функциональная и генетическая специфичность БРС проявляется в том, что определенные виды/штаммы (или группы) клубеньковых бактерий образуют совместные пары только с определенными родами, видами и разновидностями (или их группами) бобовых. Исключительно важная роль формирования указанного симбиоза состоит в том, что при его наличии бобовые растения (виды, экотипы, популяции, сорта, линии) могут за фиксации атмосферного азота успешно произрастать при отсутствии последнего в субстратах (Штарк и др., 2011).
Из 12 тыс. видов бобовых растений в сельском хозяйстве используют лишь 38 видов, а в бывшем СССР, где произрастает 1789 видов бобовых растений, вовлечено в сельскохозяйственное использование лишь 30, а широко возделывают только люцерну, клевер, горох, эспарцет и сою (Семенов, 1971).
На пастбищах и лугах в мире произрастает 11 тыс. видов растений, из которых полиплоидами представлено около 50% всех цветковых растений (Эрлих, Холм, 1966), а также многочисленными видами, размножающимися бесполым способом (Stebbins, 1970; White, 1973). Разработаны основы использования генетических ресурсов галофитов в селекции и фитомелиорации деградированных земель в условиях российского Прикаспия. Отмечается, что генетические ресурсы галофитов представлены в 250 семействах, охватывают 2500 видов, в т.ч. российские – более 500 (Шамсутдинов, 2000).
Сохраняемые компоненты генетических ресурсов включают:
– местные сорта, традиционно используемые в агроэкосистемах;
– дикие и сорные виды – родичи (сородичи) культурных растений;
– селекционные сорта (возделываемые или снятые с производства);
– ценные селекционные линии, источники и доноры адаптивно значимых и хозяйственно ценных признаков;
– специализированный генетический материал (мутанты, линии с идентифицированными аллелями, множественно маркированные линии, растительные формы, со- зданные методами генной и клеточной инженерии) и др.
Селекционные коллекции – всегда индивидуальны, как правило, немногочисленны и отражают предпочтения селекционера. В них удалена большая часть генов и коадап-тированных блоков генов, контролирующих вредные признаки. Генотипическая структура селекционных коллекций зависит от направлений селекции: эдафического, пре-адаптивного, биоэнергетического, репродуктивного и проч.
Идентифицированный генофонд, собранный in situ и ex situ
Обеднение таксономического состава и упрощение многих экосистем, происходящие в настоящее время в широких масштабах, мешают их оптимальному функционированию и стабильности, снижая уровень общей и специфической адаптивности. Такая тенденция неизбежно приводит к увеличению экологической, в т.ч. и генетической, уязвимости агроценозов, опасность которой состоит в том, что потенциал генотипической изменчивости, а, следовательно, и онтогенетической адаптации у вредных видов (патогенов, вредителей, сорняков) значительно превосходит генотипическую вариабельность культивируемых видов растений, создаваемую за счет селекции и конструирования агроэкосистем.
Современная цивилизация уже достигла того рубежа, когда от способности человека сохранять адаптивный потенциал растений будет зависеть не только поддержание равновесия биосферы Земли как единого целого, но и возможность ее использования для нужд человечества в долговременной перспективе.
Поддержанию status quo генофонда вида количественно и качественно способствует широкое распространение механизмов, ограничивающих частоту мутаций и рекомбинаций у индивидов и в популяциях (Мауг, 1983), а сохранению целостности сбалансированных адаптивных комплексов высших растений благоприятствует естественный отбор (Жученко, 1980, 1988). Сбор, оценка и систематизация генофонда диких видов растений и их родичей позволяет выделить гендоноры качественных и количественных адаптивно значимых и хозяйствен- но ценных признаков, а также проследить изменение генетической структуры (генома, хромосом и цитоплазматических детерминантов) при введении диких видов растений в культуру, т.е. их одомашнивании. Важно также учитывать роль первичных и вторичных центров генотипического разнообразия цветковых растений (Вавилов 1931, Harlan, 1961).
Генетические и признаковые коллекции, а также гендоноры характеризуют в соответствующих паспортах, каталогах и базах данных. При этом коллекции генетических ресурсов диких видов растений и их родичей, а также культурных видов – это идентифицированные, систематизированные и документированные собрания образцов растительного разнообразия, представляющих фактическую или потенциальную ценность, сохраняемых в живом виде в естественных местах произрастания ( in situ ) или вне их ( ex situ ) с целью их рационального использования.
Коллекционный образец – основная единица хранения, изучения и обмена. В состав коллекций могут входить также гербарные коллекции. Российские коллекции генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей подразделяются на 4 категории в соответствии с выполняемыми ими функциями, мандатом культур, представленностью генетического разнообразия, критериями приоритетности хранения и изучения. В 2010 году Президиумом РАСХН утверждено Положение о российских коллекциях генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей (сородичей).
Гендонор – источник определенных генов и аллелей, которые могут одновременно являться единицей мутации, мейотичес-кого или митотического кроссинговера и определенной функции. Различают гендо-норы признаков моно- и полигенных, интрогрессивных, трансгрессивных, аномальной изменчивости, геномные и хромосомные.
Аллели гендонора определяют состояние гена, в т.ч. фенотипические различия при его экспрессии, и могут быть доминантными («аллель дикого типа»), рецессивными и промежуточными. Между неаллельными генами проявляются эпистатиче- ские, компенсаторные, кумулятивные и синергические эффекты. Встречаются серии множественных аллелей, которые обусловливают до 20 и более различных фенотипов, варьирующих в зависимости от генотипической и внешней среды и проявляющих полную или неполную пенетрантность. К настоящему времени удалось определить относительную ценность, например, аллельных вариантов блоков глиадинов и глютеинов пшеницы, ранжировать их по степени влияния на хлебопекарные достоинства муки и физические свойства теста и использовать для целенаправленного конструирования генотипов с наиболее благоприятным сочетанием белков.
Эколого-генетический паспорт вида, экотипа, популяции, сорта, классифицируемых в качестве представителей идентифицированных коллекций или гендоноров, должен включать качественные и количественные характеристики наиболее хозяйственно и адаптивно значимых признаков, а также диагностические сравнения с ближайшим родичем или родичами. Нередко классификация культивируемых видов, экотипов и сортов растений дается в зависимости от содержащихся в них биологически ценных веществ (белоксодержащие, крахмалоносные, сахароносные, жироносные, эфиромасличные и др.), по отраслевому принципу (полевые культуры, кормовые, овощные, плодово-кустарниковые и др.) или способности поглощения, в т.ч. накопления и использования (утилизации) NPK. Широко известна роль К и Р в повышении устойчивости растений к действию биологических стрессоров, а Гамзиковой (2002) у пшеницы выделены гены, увеличивающие поглощение N и К в 2-5 и более раз.
Образование рас и штаммов начинается с появления расоспецифичных популяций или группы особей, отличающихся друг от друга по частоте аллелей или хромосомным структурам. Так, у бактериальных штаммов каждая клетка обладает наследственно обусловленной способностью формировать бактериофаги, или бактериальные вирусы.
При создании идентифицированных коллекций должны быть использованы фенотипические таксономические признаки, в структуре которых различают те, которые подвержены большой модификационной изменчивости, и их относят к ненадежным, а также ключевые признаки, отличающиеся низкой модификационной и генетической вариабельностью.
Выделяют следующие типы таксономических признаков: морфологические, включающие анатомию, эмбриогенез, кариологию; физиологические; экологические (особенности мест обитания, пищи и др.); географические (симпатрические и аллопатрические взаимоотношения популяций); биохимические (электрофорез сложных белков); цитогенетические (число хромосом и их кариотипы); расшифровку первичных структур ДНК.
Для сравнения степени изменчивости разных видов, экотипов, популяций и сортов, а также адаптивно значимых и хозяйственно ценных признаков обычно используют коэффициент вариации (Cv), выражающий среднеквадратическое отклонение в процентах средней:
SD x 100 , Сv= ----------- ,
M где Сv – коэффициент вариации,
SD – среднеквадратическое отклонение, М – средняя.
Идентификацию цветковых растений проводят на основе учета следующих их особенностей: ботанических, морофизиологических, биохимических, эколого-географических, агроэкологических, по положению в плодосмене (полевые, луговые, пастбищные, паровые и др.), в соответствии с целями возделывания – хлебные злаки, зерновые бобовые и масличные, кормовые, прядильные и др., свойств видов – космополитов, стенохорных (с ограниченным ареалом распространения) и эндемических (произрастающих только в данной местности), эволюционных, биоклиматиче-ских, региональных (погодно-климатических и почвенных зон).
Идентификация генофонда осуществляется по результатам полевых и лабораторных (в т.ч. в условиях фито- и ризотронов) исследований, а также выделения по каждому направлению соответствующих сортоопределяющих признаков и свойств, с указанием характеристик механизмов и структур продукционного и средоулучшающего процессов (индекс урожая, чистая продуктивность фотосинтеза, скороспелость, повышение плодородия почвы за счет накопления органической массы и биологической фиксации атмосферного азота, рассоление субстрата, фитоценоти-ческий потенциал, накопление биологически ценных веществ в урожае и т.д.), а также устойчивости (избежания и/или толерантности) к действию абиотических и биотических стрессоров (температурных, во-дообеспеченности, затенения, засоления, ионной токсичности, содержания тяжелых металлов и проч.).
Введение в культуру – доместикацион-ный синдром, генеалогия. Наибольшая эрозия генотипического разнообразия происходит на этапах одомашнивания видов, их интродукции и селекции. При этом гены, контролирующие основные фенотипические признаки («ключевые гены одомашнивания») культурного вида, под действием искусственного отбора почти полностью утрачивают свое исходное аллельное разнообразие (Wright, Gaut, 2005). Аналогичная ситуация нередко складывается и при интродукции.
Если учесть, что новые нормы генетических систем преобразования генетической информации ( R- системы) рождаются в недрах микроэволюции, причем, вероятно, с величайшей редкостью, то потери этих детерминантов генофонда оказываются невосполнимыми.
К настоящему времени вышел ряд международных документов, регулирующих действия по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений (ГРР) для продовольствия и сельского хозяйства. В их числе: Конвенция о биоразнообразии, Международный договор по ГРР ФАО, Европейская Кооперативная программа и другие, определившие основные направления и действия по сохранению ГРР. При этом рекомендуется отдавать предпочтение сохранению in situ (в местах происхождения старо-местных сортов культурных растений и в составе природных растительных сообществ – диких) по сравнению с сохранением образцов ex situ (в коллекциях).
Основы систематизации генофонда цветковых растений по ботаническому, функциональному, морфоанатомическому, физиолого-биохимическому, генетическому принципам
Отцом биологической классификации считается Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Великого шведского натуралиста эпохи Ренессанса К. Линнея (1707-1778) называют отцом таксономии, предложившим систему классификации растений и животных, а также полную иерархию их названий. Эволюционная теория Ч. Дарвина (1859) позволила объяснить, почему изменчивость в природе не непрерывна, а слагается «из групп внутри групп». Замена типологического мышления в концепциях популяции (Майр, 1942, 1943) имела важные последствия во всех областях таксономии. При этом «новая систематика», как ее назвал Дж. Гексли (1940), вела к пересмотру концепции вида и биологизации систематики, которая все больше дополнялась морфологическими признаками живых организмов, касающимися поведения, экологических требований, физиологии и биохимии. Таким образом, систематика не превратилась в отдельную область науки, а стала продолжением классической таксономии.
Большинство четко определенных высших таксонов, особенно на уровне рода и семейства, занимает строго определенную нишу или адаптивную зону (Майр, 1971). При этом род – это низшая из высших категорий, устанавливаемых строго по сравнительным данным (Кэйн, 1956). Включаемые в род виды происходят от общего предка и приспособлены к определенному образу жизни.
Современный ботанический или таксономический подходы включают известные филогенетические таксоны и уровни всей ботанической иерархии: царство – отдел – класс – порядок – семейство – подсемейство – триба – род – подрод – секция – вид – подвид – экотип – вариация или разновидность – сорт.
Почти по каждому роду имеется множество различных классификаций растений, зависящих прежде всего от точки зрения ботаника (исследователя, автора). Согласно Международному кодексу ботанической но- менклатуры ученые совершенно свободны в выборе той и иной классификации (см., например, род Lycopersicon и род Solanum).
В обширной литературе по систематизации растений наиболее используемыми являются не только известные таксономические категории (семейство, род, вид, экотип, экологические группы – мезофиты, ксерофиты, галофиты, теневые и световые растения и проч.) и ценопопуляции (группы разнонаследственных особей, рас, популяций и близкородственных биотипов), но и цитогенетические, в т.ч. мутантные коллекции; функциональные (селекционные и признаковые) коллекции; внутривидовые группы растений, включающие разные экотипы (агроэкологические расы; изогенные линии; конкретные популяции); экоэлементы (группы типов); биотипы (совокупность генетически одинаковых генотипов); микроценопо-пуляции; экоклины и топоклины. Так, Н.И. Вавилов (1935) считал оправданной практику выделения в сортовом составе пшеницы таких агроэкологических типов, как гигрофиты (произрастающие в условиях большой влажности), гигромезофиты, мезофиты, мезоксерофиты и ксерофиты (сорта пшеницы, пригодные для условий сухого климата – типа «банаток», твердых пшениц, полбы, однозернянок). Наряду с термином «агроэкотип» (Вавилов, 1934) при агроэкологической классификации используют также термины «экологический тип» (Пальмова, 1935), «агроэкологическая группа» (Бахтеев, 1953), «эколого-географический тип» (Орлов, 1936) и др.
Степень модификационной и генетической изменчивости признака и определяет его диагностическую ценность. Что касается таксономической ценности признака, то она в значительной степени зависит от его адаптивной природы. В связи с этим Майр (1971) различает: а) адаптации к общим условиям среды; б) частные адаптации, обеспечивающие приспособление к определенным экологическим, в т.ч. пищевым нишам; в) изолирующие механизмы; г) конкурентную дивергенцию признака.
Современный систематик старается собрать большую серию популяций и экотипов из многих местностей по всему ареалу вида, после чего оценивает этот материал, приме- няя методы популяционного и молекулярногенетического анализа, а также статистики. При этом классификация основана на сравнении экземпляров, представляющих соответствующие популяции, сорта, экотипы и виды. Согласно существующим воззрениям, биологическая классификация – это расположение популяций в определенном порядке (Майр, 1971). Большинство высших таксонов, особенно на уровне семейства и рода, занимают строго определенную нишу или адаптивную зону. Создание качественной классификации состоит в том, чтобы построить систему, имеющую высокую прогностическую ценность и открывающую доступ к максимальному количеству достоверной информации.
При систематизации генофонда цветковых растений учитывают:
– функциональные и структурные особенности адаптивного и адаптирующего потенциала (сочетание потенциальной продуктивности, способности эффективно утилизировать благоприятные факторы внешней среды, противостоять действию абиотических и биотических стрессоров, участвовать в средообразующих, в т.ч. средоулучшающих, процессах);
– специфику механизмов и структур онтогенетической и филогенетической адаптации; – качественные (моногенные) и количественные (полигенные) признаки, степень их модификационной и генетической изменчивости;
– существующие и перспективные направления адаптивной системы селекции. Самая важная и сложная задача при этом состоит в полноценной инвентаризации и учете всех традиционных и новых методов и направлений селекции (интрогрессивной, гетерозисной, гаметной и зиготной и др.);
– возможности молекулярного маркирования генотипического разнообразия. При этом в качестве маркеров могут выступать маркированные хромосомы, гены и аллели, влияющие на проявление количественного признака, фрагменты ДНК, локусы хромосом, определяющие конкретный фенотипически экспрессируемый признак (генетический маркер), любой другой фрагмент ДНК (молекулярный маркер, или зонд), используемый для выявления полиморфизма ДНК при построении генетических карт. Различают маркеры биохимические (детерминированный полиморфизм отдельного белка), генетические (любой аллель, используемый в эксперименте), иммуно-генетические (антигенные структуры белков), селективные (позволяющие проводить отбор рекомбинантов в расщепляющихся популяциях). Маркированная хромосома позволяет идентифицировать данный кариотип в гибридном геноме.
В коллекциях идентифицированных ген-доноров хозяйственно ценных и адаптивно значимых признаков центральное место должны занимать носители соответствующих коадаптированных блоков генов (Жученко, 1980). А это, в свою очередь, означает использование созданных в процессе эволюции специфических «коадаптирован-ных генофондов» (White, 1973), или явления «интеграции генофонда» (Stern, Tigerstedt, 1974), а также системы «генетической коа-даптации», предложенной Brown (1978) и характеризующей взаимное приспособление взаимодействующих аллелей в генотипе особи или генофонде популяции, достигнутое в процессе рекомбинации и/или отбора. Заметим, что объединение функционально связанных генов адаптации в коа-даптированные блоки позволяет виду и экотипу неопределенно долго сохранять в целостности особенно ценные наборы генов (Жученко, 1980, 1988).
Для того чтобы коллекция имела научную ценность, необходимо проводить систематизацию собранного материала (образцов, приспособленных к конкретным условиям внешней среды и имеющих определенные адаптивно значимые и хозяйственно ценные признаки), т.е. структуризацию коллекций на функциональные группы, удобные для целевого использования в селекции (сорта и гибриды засухоустойчивые, скороспелые, низкостебельные, средоулучшающие и т.д.), а также обеспечения их сохранности.
При систематизации генофонда цветковых растений важна сравнительная оценка адаптивных реакций в онтогенезе видового (включая дикие виды), экотипического и сортового разнообразия растений в различных почвенно-климатических, погодных и агротехнических условиях. Филогенетическую адаптацию характеризуют терминами «репродуктивная активность», «время генерации», «скорость репродукции генотипа», «коэффициент размножения» и др.
Ветвь биологии, изучающую причинные взаимодействия между генами растений в процессе их развития и образующими фенотип, Waddington (1940) назвал эпигенетикой. Одной из концепций, объясняющей интегративную природу онтогенетической адаптации растений, является представление именно об эпигенетической природе морфогенеза. В этом случае понятие эпигенотип, обозначающее совокупность взаимодействий между генами, контролирующими фенотип, как бы объединяет эффекты коадаптации генов, эпистатических, плейо-тропных, кумулятивных, синергических и эмерджентных их действий, а также гомеостаза развития.
Изменения одного из признаков функционально и генетически интегрированного генотипа приводит к изменению и других, что, в свою очередь, и обусловливает эпигенетические ограничения в онтогенезе, в т.ч. проявлении произвольных фенотипических эффектов мутаций (Waddington, 1957; Riedl, 1978), а также изменчивости количественных признаков (Cheverud, 1984).
Уровень генотипического полиморфизма каждого вида весьма специфичен и отражает особенности функционирования соответствующих генетических систем онтогенетической и филогенетической адаптации в их взаимосвязи.
Подчеркиваются различия между признаками систематическими и экологическими, состоящие в постоянстве первых и изменчивости вторых. Например, признаки колоса – преимущественно систематические, вегетативных органов – большей частью экологические и частично систематические, а хозяйственно ценные – обычно относятся к группе культурно-экологических.
Проявление или действие каждого гена зависит от взаимодействия с генотипической средой, а также условий внешней среды на основе обратных связей. При этом действие гена может быть прямое, комплексное, кооперативное (комплементарное), плейотропное, эпистатическое, гомологич- ное, лабильное, мутабельное (нестабильное), приводящее к стерильности особи, сцепленным с полом, симметричное и антисимметричное, доминантное или рецессивное (как результат действия соответствующих аллелей).
В числе традиционных методов картирования количественных признаков хромосомных локусов (QTL) по их генетической и селекционной перспективности находится метод QTL-картирования. При этом установление точного расположения идентифицированных QTL на хромосомах достигается с помощью молекулярных маркеров (Collard et а]., 2005). Кроме того, может быть использован и принцип ассоциативного картирования, т.е. современного метода ДНК-генотипирования, позволяющего проводить скрининг образцов генетических ресурсов растений (ГРР), в т.ч. селекционных коллекций с высокой степенью разрешения одновременно по широкому кругу аллелей (Чесноков, Артемьева, 2011).
Различают генную и хромосомную стерильность. Первая из них обусловлена генными мутациями, многие из которых нарушают мейоз – основное звено гаметогенеза, тогда как вторая связана с хромосомными перестройками, в т.ч. изменением хромосомного набора растения.
Типы идентифицированных и систематизированных генетических коллекций гендоноров и геноисточников цветковых растений
В отличие от идентифицированного ген-донора, характеризующегося определенным сочетанием адаптивно значимых и хозяйственно ценных признаков и способностью обеспечивать аналогичные свойства селектируемому генотипу (реципиенту), представители («источников» и «генетических коллекций» наряду с положительными (требуемыми) свойствами и признаками могут содержать гены и даже блоки коадаптиро-ванных генов, проявляющие отрицательные (негативные) фенотипические эффекты, в т.ч. в результате сцепления и коррелятивных связей в хромосоме или в масштабе генома с положительными признаками, а также проявления эпистатических, кумулятивных, синергических и других эффектов.
Используемые в традиционных и перспективных направлениях селекции и систем земледелия: продукционном, товарном и приусадебном, био-, фитоценотиче-ском, эколого-географическом, эдафичес-ком, реактивном, высокого качества и безопасности, фитотерапевтическом, технологическом, биоэнергетическом, ризосферном, симбиотическом, синтетическом, агросистемном, адаптивно-упредительном (превентивном), генно-инженерном, дизайно-эстетическом, агроэкологическом, экспансионистском и др.
Для реализации указанных направлений селекции чаще всего используют методы индивидуального и массового отбора; видовой (интрогрессивной) и межсортовой гибридизации; создания гибридов (в т.ч. гетерозисных); индуцированного рекомбиноге-неза (межхромосомного, межгенного и вну-тригенного); мутационной (использование спонтанных и/или индуцированных мутаций), многолинейной, ступенчатой, генно- и генетически-инженерной селекции.
Генетические ресурсы цветковых растений могут быть дифференцированы на следующие группы:
– систематизированная коллекция всех образцов диких и культурных видов, экотипов, сортов, гибридов и линий цветковых растений;
– генетические доноры, принадлежность к которым доказана на основе цитогенетического анализа соответствующих генотипов;
– мутантный генофонд (одно- и многомаркерные генотипы; носители качественных и количественных признаков);
– селекционные коллекции (генетический состав которых определяет сам селекционер);
– функционально специализированные коллекции, представленные носителями качественных и количественных адаптивно значимых и хозяйственно ценных признаков, обеспечивающих высокую продуктивность, а также устойчивость к действию абиотических и биотических стрессоров (низкосте-бельность, морозо- и холодоустойчивость, засухоустойчивость, скороспелость и т.д.).
Согласно Н.П. Гончарову (1993), существуют разные типы коллекций растений: ге- неральная, по странам, мотивная, тематическая, документальная, по истории селекции, учебная, специализированная, исследовательская, признаковая, генетическая и рабочая.
Различают также следующие коллекции генетических ресурсов: международные, национальные, базовые, дуплетные, возвратные, отраслевые (институтские), гербарные, зональные (эколого-географические) коллекции с широкой и узкой приспособленностью к местным почвенно-климатическим, погодным и топографическим условиям внешней среды или определенным фонам отбора (эдафическим, экстремальным, инфекционным и др.).
Значительная часть коллекций приходится на агроэкологические группы: – внутривидовые эколого-географические экотипы как реально существующие адаптивные адресные единицы; климатипы; эдафотипы; ценотипы и конкретные популяции; экофенотипы; биотипы (сенокосные, стойбищные и др) (Синская, 1924; Сукачев, 1938), т.е. модификационные формы присособленности растения, приуроченные к определенным типам условий местообитания и эксплуатации;
– локализованные – в зависимости от экологических различий между генотипами – экоклины, географические – топоклины (Gregor, 1938);
– сортотипы – пшеницы, капусты и др.;
– мезофиты, ксерофиты, галофиты, теневые и световые и др.
С разными сортообразующими способностями (Norin 10, Безостая 1, Мироновская 808, Саратовская 29 и др.) (наличие адаптивных блоков генов, способность к множественным кроссоверам при положительной интерференции и др.).
Виды, экотипы, сорта с С3-, С4-и CAM-типами фотосинтеза, а также r- и К-эволю-ционными стратегиями.
Обладающие разными механизмами и структурами филогенетической адаптации:
– мейотические рекомбинации, в т.ч. кроссинговер, репарации, мобильные генетические элементы и системы размножения
– mei-мутации, rec-гены, мейотический драйв, постмейотическая элиминация ре- комбинантов и аллелей, доступная отбору генотипическая изменчивость.
Интрогрессивные (межвидовой и межродовой гибридизации), трансгрессивные и аномальные генотипы.
Мутанты (одно- и многомаркерные; спонтанные и индуцированные). При этом спонтанные и индуцированное мутации не различаются в своей природе (Gustafsson, Tedin, 1954), а частота первых определятся как 106-10-8. Первые моногенные мутации томата были описаны в 1905 году Halstead et al., а в 1952 году Butler составил первые карты групп сцепления этой культуры.
Широкому использованию того или иного мутанта в селекционно-генетических опытах должна предшествовать оценка изменчивости фенотипической выраженности (пенетрантности) соответствующего признака в тех условиях внешней и генотипической среды, в т.ч. на ранних стадиях онтогенеза, при которых предполагается проводить соответствующие исследования. У многомаркерных мутантов особого внимания заслуживает проявление эпистатичес-ких, плейотропных, кумулятивных и синергических эффектов взаимодействие составляющих их генов (Жученко, 1973).
Важно также учитывать возможность тесного сцепления мутантных генов с другими хозяйственно ценными или, наоборот, вредными признаками. Так, ген Mi, обеспечивающий устойчивость томата к нематодам, находится в коррелятивной связи с другими генами, обусловливающими такие неблагоприятные признаки как позднеспелость, повышенная растрескиваемость плодов и т.д. Особенно велика роль мутантных маркеров в гибридном семеноводстве (Currence, 1940; Soressi, 1970; Даскалов, 1971).
Стержневые коллекции, или core-коллекции.
Носители аллельного полиморфизма (с разной степенью пенетрантности).
Способность к репарации, регенерации органов и тканей после стрессовых воздействий.
Конкурентоспособность, пригодность к загущению, многовидовым, многосортовым и многолинейным агроценозам.
Жизненные формы (Серебряков, 1962) характеризуются сходством морфологичес- ких признаков и в отличие от агроэкологических групп, приспособленных к отдельным факторам внешней среды (температуре, влажности, освещенности и др.), адаптированы к их совокупности, специфичной для конкретного местообитания.
Маркерные коллекции (по морфоанатомическим, биохимическим и молекулярным признакам, в т.ч. запасным белкам семян и ДНК-маркерам).
Гендоноры устойчивости (вертикальной, или расоспецифической, горизонтальной, или полигенной) к вредным видам.
Генотрофы (лен, мак, табак, махорка) – генетические изменения под влиянием разных уровней содержания NPK в субстрате.
Геноисточники высокого содержания биологически ценных веществ и безопасности продуктов питания. Фитотерапевтические коллекции (витамины, антиоксиданты, незаменимые аминокислоты и др.).
Сорта, гендоноры и генетические коллекции, позволяющие создавать многоэшело-нированные адаптивные наборы сортов и гибридов, пригодных для реализации «гибких» технологий в варьирующих погодных и экономических условиях разных регионов, а также при локальных и глобальных изменениях погодно-климатических условий. Виды – страхователи; набор сортов и гибридов-взаимострахователей.
Наборы линий и сортов, используемых для создания гибридов F1, в т.ч. гетерозисных, а также межвидовых и межродовых скрещиваний (преодоление несовместимости).
Генно-инженерные формы, трансгенные сорта, в т.ч. индукторы мейотической рекомбинации межвидовых и межродовых гибридах. Так, модифицированные растения, экспрессирующие инсектицидные белки Bacillus thuringiensis (Bt) , известны как защищенные растения, которые экспрессируют один или несколько Cry- белков для защиты от чешуекрылых и жесткокрылых вредителей. К настоящему времени получены Bt -защищенные сорта и гибриды томата, табака, хлопчатника, кукурузы и других культур.
Биотипы (резистентные, иммунные, с разной продолжительностью «активной жизни» листьев и др.) как низший элемент внутривидовой единицы (в трактовке Иогансена,
1903). К изореагентам относят группы биотипов со сходными морфобиологическими признаками, т.е. одинаково реагирующие на одни и те же факторы внешней среды.
Пригодность к кратковременному и долговременному зааливанию.
Цитоплазматические детерминанты (ЦМС и др.). Стерильность генная и хромосомная. Участие в создании гибридов F1; опасность усиления генетической и экологической уязвимости однотипных сортов и популяций (гельминтоспориозом, ржавчиной, фомопсисом и др.).
Типы образцов в зависимости от особенностей формирования адаптивных структур и адаптивных реакций:
– габитуса и морфоанатомической структуры надземной (вегетативной) и подземной (корневой, ризосферной) части, в т.ч. ее архитектуры, мощности, глубины залегания и проч.;
– систем размножения (самонесовмести-мости, межвидовой несовместимости, вегетативного размножения);
– степени подвижности (анемо-, гидро-, энтомофильный перенос пыльцы; фото-, гидро-, и геотропизмы; свертывание листовых пластинок; открытие и закрытие устьиц и др.);
– эффектов взаимосвязи генетических систем генетической и филогенетической адаптации ( F- и R- систем) - «буферирующих», компенсаторных («эволюционный компромисс»); «эволюционного танца» F- и R- систем в системе «растение – хозяин – паразит – среда»;
– разной степени изменчивости, интегрированности и автономности конститутивных и приспособительных признаков и адаптивных реакций;
– требований в селекции экспансионистской направленности (гены стерильности, генерационная стерильность, ограничение репродуктивных функций, суицидные сорта и гибриды, биологический терроризм);
– возможностей биологического освоения новых планет с помощью космических инт-родуцентов, т.е. организмов, живущих в атомных реакторах, кратерах вулканов, глубинах океанов и др.;
– целей научно-исследовательских работ, квалификации кадров и используемых мо- дельных объектов.
Особую важность в эффективном использовании систематизированных коллекций имеет создание широкой эколого-географической селекционной, семеноводческой и сортоиспытательной сети, обеспечивающих получение соответствующих репрезентативных (достоверных) оценок, включая более надежное выявление искомого генотипа за «фасадом» фенотипа, а также рост эффективности «региональной селекции».
Пути и методы поиска, идентификации, дифференциации, систематизации и отбора гендоноров и генетических коллекций ценных признаков онтогенетической и филогенетической адаптации, а также их взаимосвязи
Закон Н.И. Вавилова о гомологической изменчивости признаков у родственных видов цветковых растений (возможность прогноза). Дарвин, Кренке и другие ученые писали о параллельной изменчивости (сходстве).
Центры сопряженной эволюции в системе «хозяин – паразит». Особенности выявления гендоноров вертикальной (расоспецифической) и горизонтальной (полевой) устойчивости, пригодных для разных почвенно-климатических регионов.
Особенности введения в культуру видов и экотипов растений с учетом роли домести-кационного синдрома (ресинтез видов, мутации и структурные изменения).
Ассоциативное картирование, QTL и маркерное картирование базируются на использовании маркеров, находящихся в тесной связи с тем геном, на котором сосредоточено внимание селекционера. При этом наиболее широкое применение получают морфологические маркеры, а также маркеры, идентификация которых основана на полиморфизме запасных белков семян (гор-деинов, проламинов, вицилинов, легуминов и др.) или некоторых ферментов (например, эстераз). В ассоциативном картировании участвуют молекулярные (или ДНК) маркеры, носителями которых являются молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), различимые в растительной клетке. Генетическая информация в молекуле ДНК размещена линейно в отдельных генах с разными функциями. Для селекции важную роль играет полиморфизм ДНК, т.е. разница в структуре взаимно соотносящихся отрезков ДНК у разных сортов (линий).
Метод отбора с помощью маркеров (англ. marker assisted selection, MAS) в значительной степени автоматизирован. Использование MAS наиболее эффективно для моногенных признаков. Однако гены, контролирующие количественный признак, обычно сгруппированы в хромосоме в одном или нескольких коротких отрезках (блоках коадаптированных генов), или так называемых локусах количественных признаков (англ. quantitative trait locus, QTL). Гены в этих блоках находятся в генетической связи и передаются потомству в совокупности, что и позволяет для их идентификации использовать MAS. Так, для генома ячменя приведен список почти 1800 генов и маркеров (Thomas, 2002).
В последние десятилетия развитие молекулярных методов дало возможность применять молекулярные маркеры для видои-дентификации и филогенетических исследований. При этом молекулярная филогения использует такие данные для построения филогенетического древа, которое отражает гипотетический ход эволюции исследуемых организмов (Матвеева и др., 2011). Для идентификации видов и филогенетических исследований пригодны хлоропластные маркеры, а при изучении межвидовых отношений и описании внутривидового полиморфизма используют маркеры RFLP, AFLP, RAPD или STR, а также ISSR (Kema et al., 2002; Selkoe, Toonen, 2006). И все же в эколого-генетических исследованиях применение молекулярных маркеров не может вытеснить (заменить) классические методы, однако способно существенно их дополнить.
Гендоноры и генетические коллекции биологически ценных веществ. У различных форм, экотипов и сортов одного вида преобладают главным образом количественные измения по группам веществ (Вавилов, 1932; Нилов, 1934; Иванов, 1935).
Эволюционно-экологические особенности природных условий сии предопределяют уникальность отечественного генофонда растений (морозо- и зимостойкость, засухо- устойчивость, короткий вегетационный период, горизонтальная устойчивость к патогенам, высокое качество урожая, пригодность к длительному хранению и др.).
Отбор «против течения» эволюционного развития рода или вида позволяет обнаружить среди многодольных форм «скрытую, реликтовую» генотипическую изменчивость, представляющую определенный интерес для селекционеров.
Особое место в систематизированных коллекциях занимают эндемики и стенохорные виды с ограниченным ареалом распространения, а также космополиты, которые составляют лишь незначительную часть среди цветковых растений (0,001% от общего количества цветковых видов) (Алехин, 1934).
В настоящее время возможность систематически пополнять динамичную структуру сохраняемого генофонда за счет новых экотипов, биотипов и сортов разных видов растений из различных почвенно-климатических зон России и мира. При этом взаимосвязь генетического полиморфизма и экологической специализации положена в основу долговременной стратегии поиска и использования искомых гендоноров и генетических коллекций.
Опыт создания таких шедевров мировой селекции пшеницы, как сорт Безостая 1, свидетельствует об эффективности экологогеографического принципа (Вавилов, 1940), использования в скрещиваниях набора почти 30 исходных форм из различных стран мира. Еще более сложная генеалогия у скороспелых мексиканских сортов яровой мягкой пшеницы. Так, в родословную сорта Narro VF 74 входят 104 исходных сорта и линии, используемые в основных земледельческих регионах мира (Мережко, 1984, 1994).
Отдельные эколого-географические зоны отличаются не только широким разнообразием местных исходных форм растений, но и существенным влиянием естественного отбора на экспрессию комплекса признаков, обеспечивающих наибольшую величину и качество урожая отбираемой популяции. Так, по мнению Кумакова (2000), мировой лидер по засухоустойчивости сорт пшеницы Саратовская 29 является результатом не столько искусственного, сколько естественного отбора. И не случайно, по данным Ра- бинович (1972), 61-64% сортов в Поволжье созданы с участием селекционного материала только из этой зоны.
Имеется множество гипотез относительно причин эффективности использования в скрещиваниях эколого-географически отдаленных форм (экотипов, сортов, линий) и соответствующих принципов подбора родительских компонентов в селекции (Вавилов, 1932, 1940; Фляксбергер, 1934; Мережко, 1981; Неттевич, 1982; Бороевич, 1984 и др.). На наш взгляд, в основе указанных подходов лежат процессы эколого-генотипической дивергенции исходных популяций растений в результате их адаптации к локальным особенностям местообитания, т.е погодно-климатическим, почвенным, топографическим и другим природным условиям, за счет диз-руптивного естественного отбора и экоти-пической дифференциации. Кроме того, в указанной ситуации речь идет о сочетании в селектируемом сорте большого числа адаптивных признаков, контролируемых коадап-тированными блоками генов (Жученко, 1980, 1988). Разумеется, проявление высоких показателей величины и качества урожая в синтезируемых на такой основе сортах и гибридах не является суммой экспрессии указанных генетических детерминантов, а оказывается результатом разнообразных эффектов их взаимодействия (кумулятивных, синергических, эпистатических, эмерд-жентных и др.), а также разных коррелятивных связей (положительных, отрицательных, нейтральных) между ними в интегрированной системе соответствующего идиотипа.
При создании коллекций идентифицированных и систематизированных гендо-норов особый интерес представляют те из них, гены которых обеспечивают одновременную адаптацию ко многим факторам внешней среды. Так, ген Yr-15 контролирует устойчивость сортов пшеницы ко всем расам желтой ржавчины (Король, 011). К этой же группе относят и доноры генов, которые обладают целым ядом полезных плейотропных эффектов.
Высокая пространственная и временная репрезентативность (надежность) в оценках гендонорных и хозяйственно ценных свойств систематизируемых видов, экотипов, сортов и популяций позволяет форми- ровать соответствующие генетические коллекции и информационные базы данных.
Общие принципы мобилизации генетических ресурсов цветковых растений
В проблеме мобилизации генетических ресурсов цветковых растений важную роль играет соблюдение общебиологических, методологических и методических основ на этапах сбора растительных образцов, введения их в культуру, изучения, хранения, создания и систематизации идентифицированных генетических коллекций.
В целом многочисленные данные убедительно опровергают предвидение о геноме высших растений как «мешке с бобами» и об адаптивных реакциях как «реестре» отдельных процессов метаболизма и функций.
На протяжении всей истории сельского хозяйства около 7-10 тыс. растений использовали как продовольственные культуры, но сегодня в значительных объемах используют лишь 150 видов. Из них только за счет риса, кукурузы, пшеницы, картофеля, бата-та/ямса, ячменя, сорго/пшена, сахарного тростника и сои – производят 75% растительных пищевых продуктов, а 30 культур обеспечивают 95% от общих объемов.
В связи со всевозрастающими масштабами исчезновения видов растений в настоящее время в генетических банках сберегают семена и ткани растений, образцы которых хранят при температуре -18°С в холодильниках или -196°С в жидком азоте, где они остаются жизнеспособными в течение долгих периодов времени, а некоторые и до сотни лет. К началу XXI столетия в мире функционирует более 1400 генетических банков. В их числе и самый крупный в мире Свал-бардский глобальный банк семенных фондов, или Хранилище судного дня, созданный на Шпицбергене в 2008 году для сохранения важнейших образцов растений на случай глобальной экологической катастрофы.
Однако экологически пассивный «музейный» метод сохранения генофонда в ген-банках должен сочетаться с непрерывным его пополнением новыми видами, экотипами и сортами, а также сохранением популяций в заповедниках и заказниках. При этом следует исходить из того, что хотя адаптация растений к условиям окружающей сре- ды в большинстве случаев обеспечивается не отдельными генами, а довольно сложными их сочетаниями (Grant, 1984), у каждого гена потенциально столько селекционных ценностей, сколько генетических сред он имеет (Мауг, 1975).
Представленное выше выделение генетических групп цветковых растений базируется на использовании основ экологофилогенетической систематики различных видов покрытосеменных, учитывающей морфогенез репродуктивных структур, в т.ч. эволюцию морфологии цветка. Наряду с положениями классической ботаники учтены достижения в области экологической и эволюционной генетики, а также молекулярной филогенетики.
Законы и правила, действующие на одном уровне биологической организации, далеко не всегда можно использовать при оценке других, более высоких или низких уровней. Вот почему попытки экстраполировать данные, полученные на низших организмах, на высшие чаще всего приводят к ошибочным выводам, в т.ч. и неверному определению приоритетов в научных исследованиях. Так, одностороннее увлечение мутагенезом оставило в тени важнейший фактор эволюции и селекции – мейотический рекомби-ногенез.
Даже при полноценной идентификации и систематизации имеющегося генофонда цветковых растений на соответствующие генетические и функциональные коллекции адаптивно значимых и хозяйственно ценных качественных (моно-, олигогенных) и количественных (полигенных) признаков, их эффективное использование требует одновременного формирования информационнопоисковых систем, охватывающих всю исходную базу созданных генбанков, соблюдения основных положений принятых международных и национальных конвенций и регламентов, в т.ч. правового статуса сохранения сорта и рационального использования мирового генофонда цветковых растений.
При мобилизации генетических ресурсов цветковых видов растений на основе создания их специализированных генетических коллекций следует особо выделить роль экологической генетики. Обусловлено это тем, что основным предметом ее исследований в широком понимании этой области знаний является генетическая природа адаптивного потенциала организмов на разных уровнях организации биоты (от молекулярного до биоценотического и биосферного) и формирования – индивида, популяции, экотипа, вида, рода и семейства.
Весь опыт развития мирового растениеводства, включая его интенсификацию, свидетельствует о том, что только на основе дифференцированного использования генетических ресурсов (соответствующих ген-доноров и коллекций) возможен переход к точному (прецизионному) земледелию. При
ОБ АВТОРЕ
Родился 25 сентября 1935 г. в городе Ессентуки Ставропольского края. В 1960 г. с отличием окончил Высший сельскохозяйственный институт им. В. Кола-рова (Болгария). В 1960-1963 годы – управляющий отделением, главный агроном; в 1963-1966 годы – директор совхоза; 1967-1976 годы – директор Молдавского НИИ орошаемого земледелия и овощеводства,
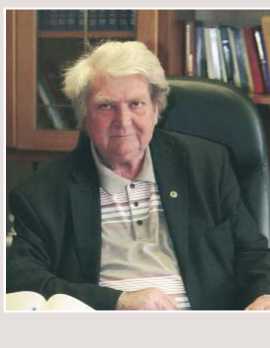
одновременно (с 1973 г.) – Генеральный директор НПО «Днестр»; 1976-1977 годы – вицепрезидент, а в 1977-1989 годы – президент Молдавской академии наук; одновременно (с 1980 г.) – директор Института экологической генетики; 1979-1989 годы – Депутат Верховного Совета СССР; 1989-1992 годы – заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике; 1992-2007 годы – заведующий кафедрой генетики Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева; 1992-2009 годы – вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук.
В настоящее время А.А. Жученко – председатель Фонда им. А.Т. Болотова, вице-президент Вавиловского общества генетиков и селекционеров (ВОГИС), председатель экспертной комиссии по присуждению Золотой медали им. Н.И. Вавилова, председатель редакционного совета журнала «Сельскохозяйственная биология. Серия биология растений», член редакционных коллегий журналов «Генетика», «Агро XXI», «Экологическая генетика», «Биосфера» и др. В числе учеников – 52 кандидата и 7 докторов наук.
По проблемам частной и экологической генетики, агроэкологии, селекции растений, стратегии адаптивной интенсификации сельского хозяйства опубликовал более 600 работ, в т.ч. 18 монографий.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995). Награжден орденами Ленина (1966), Октябрьской революции (1973), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1981, 1985), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), медалями СССР, России и Болгарии, Золотой медалью им. Н.И. Вавилова (1974), Большой Золотой медалью Словацкой академии наук (1982), Золотой медалью «За охрану природы России» (2007), Золотой медалью МСХ РФ, Золотыми медалями ВДНХ и др.
Список литературы Мобилизация мировых ресурсов цветковых растений на основе создания систематизированных генетических коллекций
- Жученко А.А. Мобилизация генетических ресурсов цветковых растений на основе их идентификации систематизации. М., 2012.-584 с.


