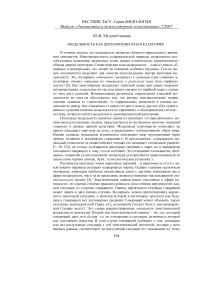Модальность как двукомпонентная категория
Автор: Мухометзянова Юлия Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Сообщения по результатам исследований
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120450
IDR: 146120450
Текст статьи Модальность как двукомпонентная категория
Различается несколько типов оценочных значений – в зависимости от того, какой именно параметр ситуации подвергается оценке. Однако главным оценочным значением, имеющим наиболее интенсивные связи с другими значениями как в сфере модальности, так и за ее пределами, является значение так называемой эпи-стемической оценки [5]. Эпистемическая оценка имеет отношение к сфере истинности; это оценка степени правдоподобности (или степени вероятности) данной ситуации со стороны говорящего. Оценку вероятности ситуации говорящий может давать в двух разных случаях. Во-первых, можно прогнозировать вероятность некоторой ситуации, о наличии которой в настоящем, прошлом или будущем у говорящего нет достоверных сведений. Говорящий может объявить такую ситуацию маловероятной ('вряд ли'), возможной ('может быть'), высоковероятной ('скорее всего'). Это самые распространенные показатели эпистемической модальности (гипотезы). Второй тип эпистемической оценки – это тот, который говорящий дает post factum, т.е. по отношению к ситуации, истинность которой ему достоверно известна. В этом случае говорящий сообщает о том, совпадает или нет наступление ситуации с той эпистемической гипотезой, которая у него имелась раньше, соответствует ли наступление ситуации его ожиданиям по этому поводу. Как и показатели «эпистемической гипотезы», показатели «эпистемиче-ского ожидания» могут квалифицировать ситуацию как маловероятную, возможную или высоковероятную. Наиболее часто встречаются показатели низкой вероятности (=«неожиданности»), что прагматически естественно: говорящие, скорее, склонны эксплицитно выражать случай нарушенных, чем случай подтвердившихся ожиданий.
Значения ирреальной модальности описывают ситуации, которые не имеют, не могут или не должны иметь места в реальном мире. Модальные показатели этого типа описывают некоторый «альтернативный мир», существующий в сознании говорящего в момент высказывания. Это, безусловно, одно из самых важных в когнитивном и коммуникативном отношении значений.
Со времен Аристотеля одним из основных модальных значений принято считать значение возможности. Данное значение описывает ирреальную ситуацию: в естественном языке высказывание типа X может Р предполагает, что Р не имеет места. С лингвистической точки зрения возможность является неоднородным понятием. Прежде всего, следует различать внутреннюю и внешнюю возможность . Первая возникает в силу внутренних свойств субъекта, вторая является следствием внешних обстоятельств, не зависящих от самого субъекта. Так, способность, умение, физическая возможность являются внутренними возможностями, они характеризуют их обладателя наряду с другими его отличительными свойствами: Он может двадцать пять раз подтянуться на перекладине . Напротив, внешняя возможность является прежде всего отсутствием препятствий для реализации Р (разрешением некоторого лица А лицу В совершить действие Р , т. е. обещанием не создавать препятствий для Р , создать которые во власти А): вы можете сесть (= я разрешаю).
Особой разновидностью ирреальной модальности является обусловленная (или импликативная) модальность, которая также описывает возможность , но лишь такую, реализация которой зависит от определенного фактора: Если завтра будет хорошая погода, то мы поедем за город) . В условных конструкциях различаются две части: посылка, в которой вводится фактор реализации, и импликация, в которой содержится описание возможной ситуации.
Принято различать три вида условных конструкций: реальные (реализация посылки высоковероятна), нереальные (реализация посылки маловероятна) и кон-трафактические (посылка невозможна в реальном мире). Очевидно, что данная классификация производится на базе значений эпистемической модальности, дополнительно выражаемых в составе условных конструкций. В русском языке реальное условие противопоставляется всем видам ирреального, тогда как в германских языках (в частности, в английском) обычно грамматически противопоставляются все три условных конструкции:
-
(1) Реальное условие:
-
a) Если будет хорошая погода, то мы поедем за город [хорошая погода возможна].
-
b) If the weather is fine, we`ll go to the country.
-
(2) Нереальное условие:
-
а) Если бы <завтра> была хорошая погода, то мы бы поехали за город [хорошая погода маловероятна].
-
б) If the weather were fine, we would go to the country.
-
(3) Контрафактическое условие:
-
a) Если бы <вчера> была хорошая погода, то мы бы поехали за город [в действительности хорошей погоды не было].
-
b) If the weather had been fine, we would have gone go to the country.
Обратим внимание на использование различных аспектуальных и таксисных форм в (2)–(3) для передачи эпистемической невозможности и на использование форм презенса и претерита в (1)–(2) для описания события, возможного в будущем. Английские конструкции с would являются специализированными средствами выражения обусловленной возможности (т.е. импликатив-ной модальности).
Важным отличием значений оценочной модальности от значений ирреальной модальности является то, что оценка всегда производится говорящим, в то время как возможность характеризует субъекта ситуации Р . Это особенно хорошо заметно в тех случаях, когда в языке для выражения оценочной и ирреальной модальности используются одни и те же средства, в результате чего одно и то же высказывание может быть истолковано по-разному. Например, два разных понимания предложения Петя может плавать – как выражающее внутреннюю (=Петя умеет плавать) или внешнюю (=Петя получил разрешение) возможность, с одной стороны, и как выражающее эпистемиче-скую возможность, с другой (=Отсутствие Пети на берегу, по всей вероятности, означает, что Петя плавает). Если при «ирреальном» понимании возможность плавать объявляется свойством Пети или окружающих Петю обстоятельств (а само плавание – в момент речи не имеющим места), то при «оценочном» понимании ситуация Петя плавает предполагается имеющей место, а возможность оказывается ее возможностью с точки зрения говорящего (= я считаю вероятным, что сейчас Петя плавает).
Следует обратить внимание на различные функции показателя настоящего времени. При «ирреальной» интерпретации он указывает на то, что в момент речи возможность (как свойство Пети) имеет место, а при оценочной интерпретации показатель времени соотносится не с моментом существования эпистеми-ческой возможности (которая всегда привязана к акту речи), а с моментом существования Р , т.е. плавания. Так, высказывание Петя мог плавать при эпистеми-ческом понимании выражает оценку (по-прежнему, в момент речи) плавания, имевшего место в прошлом. В этом случае модальный глагол как бы принимает на себя временную характеристику подчиненного ему предиката. Это не универсальное (хотя и частое) свойство модальных глаголов. Иная грамматическая техника присутствует в соответствующих английских конструкциях may swim «может плавать» и may have swum «мог плавать».
В силу указанных свойств оценочную модальность часто определяют как «субъективную», а ирреальную модальность – как «объективную». Некоторые исследователи говорят об «эпистемической» и «деонтической» модальности, что, по мнению В.А. Плунгяна, несколько сужает объем обоих понятий, поскольку оценка, может быть не только эпистемической, а термин «деонтический» обычно применяется к необходимости, но не к возможности [5].
С лингвистической точки зрения, важными оказываются возможные точки соприкосновения между двумя сферами модальности. Связь оценочной и ирреальной модальности может быть двоякого рода. С одной стороны, диахронически грамматические показатели модальности в языках мира обычно эволюционируют от менее грамматикализованной ирреальной модальности к более грамматикали- зованной оценочной (прежде всего, эпистемической), а внутри зоны ирреальной модальности – от выражения внутренней модальности к выражению внешней. Почти универсальной является полисемия модальных предикатов, сочетающих в языках мира ирреальное и эпистемическое значение [5].
Распространенность подобной полисемии способствовала распространению попыток построить инвариантное семантическое описание для предикатов возможности, из которого выводились бы как эпистемическая, так и ирреальная интерпретации. Такое описание предлагалось, в частности, в [3; 6] и др. Несмотря на то, что подобные интерпретации вполне логичны (очевидно, что эпистемическое и ирреальное значения во многих языках сохраняют существенную общую часть), раздельное рассмотрение этих значений предпочтительнее. В то же время существует такая семантическая зона, в которой значения оценки и ирреальности объединяются. Это - семантическая зона желания, которое, таким образом, является в некотором смысле центральным модальным значением, поскольку содержит все основные компоненты модальности. Действительно, если X хочет Р, то это означает, что, во-первых, Р не принадлежит реальному миру (человек может хотеть только того, чего не существует), а, во-вторых, что X положительно оценивает Р (человек хочет того, что считает хорошим). В отличие от возможности, желание способно приписываться как субъекту ситуации ( X хочет Р ), так и говорящему ( я хочу, чтобы Р ). Особой проблемой является вопрос о том, присутствует ли элемент хотеть в семантике предикатов возможности. Согласно одной из гипотез, смысл X может Р представим через смыслы хотеть и если : X может Р и если Xхочет Р, X осуществляет Р [4: 212]. Однако, как отмечает В.А. Плунгян, далеко не все типы ирреальной возможности соответствуют такому толкованию: оно весьма проблематично не только по отношению к внешней возможности, но даже ко многим случаям внутренней возможности, которые никак не связаны с желаниями субъекта. Желание является распространенным, но отнюдь не единственным условием реализации Р : с его умом, он может быть президентом не равно если он захочет быть президентом, он им будет [5].
Таким образом, более предпочтительной является такая точка зрения, согласно которой в сфере ирреальной модальности выделяется сфера возможности и сфера желания, обладающие значительной семантической самостоятельностью и не сводимые друг к другу.