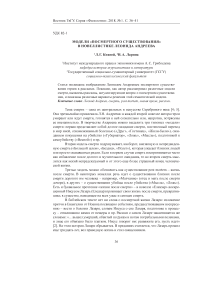Модели "посмертного существования" в новеллистике Леонида Андреева
Автор: Кихней Любовь Геннадьевна, Ларина Надежда Альбертовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изображению Леонидом Андреевым посмертного существования героев в рассказах. Показано, как автор рассматривал различные модели смерти, выявлены рассказы, актуализирующие вопрос о посмертном существовании, и показаны различные варианты решения этой семантической модели.
Леонид андреев, смерть, малая проза, рассказ
Короткий адрес: https://sciup.org/146278401
IDR: 146278401 | УДК: 82-1
Текст научной статьи Модели "посмертного существования" в новеллистике Леонида Андреева
Тема смерти – одна из центральных в искусстве Серебряного века [4; 5]. Она чрезвычайно привлекала Л.Н. Андреева: в каждой второй новелле автора герои умирают или ждут смерти, готовятся к ней сознательно или, напротив, потрясены ее внезапностью. В творчестве Андреева можно выделить три типовых «модели» смерти: первая представляет собой долгое ожидание смерти, постепенный переход в мир иной, ознаменованный болезнью («Друг», «Гостинец», «Жили-были»), ожиданием покушения на убийство («Губернатор», «Ложь», «Мысль»), подготовкой к самоубийству («Весной») и пр.
Вторая модель смерти подразумевает, наоборот, внезапную и непредвиденную смерть («Большой шлем», «Бездна», «Полет»), которая ужасает близких людей или просто оказавшихся рядом. Если в первом случае смерть воспринимается часто как избавление после долгого и мучительного ожидания, то во втором смерть мыслится как некий непредсказуемый и от этого еще более страшный конец человеческой жизни.
Третью модель можно обозначить как существование post mortem – жизнь после смерти. В некоторых новеллах речь идет о существовании близких после смерти дорогого им человека – например, «Молчание» (отец и мать после смерти дочери), в других – о существовании убийцы после убийства («Мысль», «Ложь»). Есть и буквальное прочтение «жизни после смерти» – в новелле «Елеазар» воскрешенный Иисусом Лазарь (Елеазар) проживает свою жизнь после смерти, превратившись в существо, наводящее на всех ужас и сеющее смерть.
В библейском тексте нет ни слова о посмертной жизни Лазаря: изложение притчи в Евангелии от Иоанна посвящено событиям, предшествовавшим воскресению – вести о болезни Лазаря, словам Иисуса о сне Лазаря, подготовке к процессу – отваливанию камня от пещеры и пр. Рассказ о самом Лазаре заканчивается же словами: «…вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» [2]. На этом история Лазаря обрывается. В преданиях считается, что Лазарь прожил еще тридцать лет, вел праведную жизнь и стал священником.
Ликование по поводу воскресения Елеазара в рассказе Андреева сменяется ужасом, когда гость спрашивает, что именно видел Елеазар, будучи мертвым. Этот вопрос разрушает все веселье, и именно с этого вопроса начинается сеяние Елеазаром ужаса. Фактически Елеазар остается мертвым, утратившим способность жить как нормальный человек. Елеазар превращается в мифологическое чудовище, чей взгляд получает способность убивать – не в прямом смысле слова, но наводить на посмотревшего ему в глаза страшную скуку, обесценивавшую всю последующую жизнь человека.
Образ ожившего мертвеца в то же время является архетипом человеческой культуры: представления о вампирах, вурдалаках, упырях и других вариациях оживших мертвецов, терроризирующих живых, распространены практически во всех мифологиях. Фактически Андреев развернутой аллегорией иллюстрирует мысль, что живущим не надо знать о том, что такое смерть: познавший это Лазарь впадает в состояние смертной тоски и одним взглядом передает его всем людям. С каждым человеком происходит то же самое, что произошло и с самим Елеазаром, – он навеки застывает в том состоянии, в котором его захватила встреча с неизведанным. Только императору Рима удается ценой невероятных усилий победить это состояние, но и на него страшный взгляд Лазаря оказывает жуткое влияние.
Весь рассказ представляет собой развернутую попытку проанализировать ответ на вопрос: что будет, если человек совершенно точно узнает, каково посмертное существование. Обращение к притче о Лазаре – прямая отсылка к Ф. М. Достоевскому. В романе «Преступление и наказание» чтение этой притчи – важнейший эпизод, знаменующий поворот Раскольникова к покаянию. Для Достоевского важно число 4: согласно библейскому тексту, Лазарь пролежал в гробу четыре дня. Чтение эпизода о Лазаре помещено в четвертой главе четвертой части и происходит на четвертый день после убийства.
У Андреева Елеазар пролежал в гробу три дня, и символический смысл приобретает число три: три дня пируют гости, прежде чем начинают замечать странности в воскрешенном, три встречи упомянуты в Риме – пьяница, мудрец и влюбленная пара, три значимых разговора происходят в посмертном существовании Елеазара – с гостем, задавшим вопрос, со скульптором и с императором. Третий из подробно заинтересовавшихся Елеазаром человек, император Август, находит решение, окончательно изменившее посмертное существование Елеазара, – ему выкалывают глаза, что уничтожает его пугающий взгляд навсегда.
В произведении Андреева использован еще один неоднозначный символ – брачная одежда Елеазара. После смерти его одевают как жениха, радуясь чудесному воскресению, затем уже истрепавшиеся брачные одежды на нем видит Аврелий: «Я видел женихов в вашей стране, и они носят такое платье – такое смешное платье – такое страшное платье… Но разве ты жених?» [1]. Когда Елеазар отправляется к императору Августу, он опять оказывается в брачных одеждах: «Одели Елеазара пышно, в торжественные брачные одежды – как будто время узаконило их и до самой своей смерти он должен был оставаться женихом неведомой невесты» [Там же]. Обрученный со смертью, он вынужден вечно оставаться в брачных одеждах, пока невеста не примет своего жениха. Посмертное существование оборачивается ожиданием смерти: фактически Елеазар так же ждет смерти, как обреченные и больные герои Андреева из других рассказов.
Другой попыткой ответить на вопрос, что же ждет человека после смерти, является иронический рассказ «Покой», герой которого умер и беседует с чертом.
Как и в случае с Елеазаром, смерть является не финишем, а стартом сюжета: рассказ начинается со слов «Умирал важный, старый сановник, большой барин, любивший жизнь. Умирать ему было трудно: в Бога он не верил, зачем умирает – не понимал, и ужасался ужасом безумным. Было страшно смотреть на него, как он мучился» [Там же]. Сановнику предлагается выбор между вечной жизнью в аду или окончательной смертью, покоем. Весь рассказ, в сущности, посвящен мучительному выбору между этими альтернативами, размышлениям о преимуществах того или иного варианта.
Андреев вновь вступает в полемику с христианским пониманием посмертного существования: сановник попадает не в ад или в рай, а имеет возможность выбрать, причем в начале рассказа упоминается, что он не верил в Бога, и ему по справедливости полагалось бы отправиться в ад. Ад в изложении черта оказывается скучным заведением, в котором фактически продолжается земное существование. Хотя рассказ «Покой» по своей тональности разительно отличается от «Елеазара», красной нитью в нем проводится все та же мысль: посмертное существование невыносимо скучно. Сановник, видимо, вслепую выбирает покой и полное небытие, так как и само название рассказа – «Покой» – наталкивает на эту мысль, и в последней фразе звучит намек на то, что гроб был пустым: «Мокрые, слипшиеся комья тяжело грохались о крышку, и казалось, что гроб совсем пуст, и в нем нет никого, даже и покойника, – так широки и гулки были звуки» [Там же].
Андреева интересует физиологическая сторона смерти – разложение, разрушение, но при этом он обращает внимание и на посмертное существование как таковое, на жизнь в ином пространстве, которая мало чем отличается от здешней, земной жизни по версии рассказа «Покой», либо представляет собой некую непроницаемую тьму по версии рассказа «Елеазар».
Тема post mortem решается не только в ключе жизни мертвеца в ином пространстве – она также рассмотрена Андреевым в категориях жизни после смерти тех, на кого эта смерть оказала важное влияние, – близких умершего или того, кто причинил ему смерть, – убийцы.
В рассказе «Молчание» лейтмотивом становится посмертное молчание дочери Верочки, которая ни при жизни, ни после самоубийства не сообщает о причинах своей хандры. Как и во многих произведениях Андреева, член семьи уезжает и затем возвращается другим, не похожим на себя прежнего. Дочь Верочка, уехавшая в Петербург, возвращается в тоске и хандре, о причинах которой ничего не сообщается читателю: сведения о самой поездке отрывочны, в словах родителей возникает только мысль о том, что Верочка уехала против их воли, однако получала от них материальную поддержку. До гибели Верочки в доме отца Игнатия двое «молчащих»: сам отец Игнатий и Верочка, а мать, Ольга Степановна, мечется между ними, пытаясь «наладить коммуникацию». После смерти Верочки замолкают все: мать хватил удар, отец Игнатий приходит в пустой, молчаливый дом, и его попытки услышать голос дочери после смерти также оканчиваются молчанием.
Весь мир отца Игнатия, Ольги Степановны, Верочки – это мир «диалога глухих», в котором практически все реплики обращены в пустоту. Краткость и безадресность реплик – характерная черта мира post mortem . Воскресший Елеазар практически не разговаривает, за весь рассказ он произносит буквально две-три реплики, одна из которых («Я был мертвым») дается ему с большим трудом и является вымученным ответом на вопрос Цезаря «Кто ты?». В мире семьи отца Игнатия
Верочка не реагирует на реплики отца и матери, отец, в свою очередь, не реагирует на слова матери, молчание подменяет собой общение.
Дом, прежде наполненный звуками (в доме были ноты Веры, следовательно, она играла музыку, пела канарейка, которую после похорон выпустила кухарка), превратился в молчаливый. Отец Игнатий сам размышляет о том, что, в отличие от тишины, дом этот наполнен теми, кто мог бы говорить, но не хочет.
В «Молчании» возникает логическая нестыковка, показывающая, что сам отец Игнатий не совсем строго соблюдает церковные каноны. Хотя Верочка и является самоубийцей, ее отпевают в церкви и хоронят на кладбище. Присутствующие на похоронах ничего не говорят её отцу, как бы продолжая тематику молчания. Центром, притягивающим к себе это глобальное молчание, становится, таким образом, сам отец Игнатий: именно его холодность, строгость, нежелание идти на контакт становятся основой разобщения и в конечном итоге – разрушения семьи. Хотя он и является священником, ему ничего не стоит обойти церковные заповеди, а разговоры в течение отпевания показывают, что его не столько почитают, сколько боятся, и отношение к нему скорее негативное, чем позитивное.
Лейтмотивом post mortem становится тот факт, что умерший кого-либо еще «забирает с собой»: воскресший Елеазар множество людей «отправляет» в мир глубокой тоски, равносильной смерти; самоубийца Верочка приводит в состояние, близкое к смерти, свою мать, которую разбил удар, и отца, сходящего с ума.
Смерть в понимании Андреева представляет собой минус-коммуникацию: рассыпаются диалоги, люди не понимают друг друга, акцентируется невозможность вступить в общение и наладить коммуникацию. В рассказе «Молчание» отец Игнатий так и не узнает, что же мучило его дочь. В рассказе «Ложь» главный герой так мучительно пытается получить ответ на вопрос, любит ли его героиня, что в итоге убивает ее. Но и это не избавляет его от мучений, а лишь множит их: у мертвой уже нельзя узнать, любила она его или нет.
«Ложь» и «Молчание» написаны с разницей в год, и их структурная схема сходна: в обоих случаях некто добивается от человека ответа на вопрос, а после смерти этого человека в ужасе осознает, что этого ответа он не получит никогда. Отец Игнатий пытается услышать голос дочери на кладбище и дома, герой «Лжи» воображает себя на том свете и свою встречу с убитой.
В обоих случаях молчание порождает смерть, еще больше усиливающую молчание: минус-коммуникация при жизни возводится в абсолют, удваивается после смерти. Воскресший Елеазар после смерти может говорить, однако удаются ему лишь короткие фразы, и он не может дать ответа на простейшие вопросы, с которыми к нему обращаются.
В целом все рассказы, посвященные модели смерти post mortem, раскрывают следующую особенность: жизнь после смерти может быть рассмотрена в аспекте физиологическом – и это всегда малоприятные подробности разложения, «остановки» тела, следов тления и пр. – и в аспекте духовном – непознаваемое молчание, тишина, тьма, единственной альтернативой которого является вечная скука: по версии рассказа «Покой», если человек не выбирает посмертное небытие, то его жизнь после смерти весьма напоминает земную.
Герои нескольких рассказов Андреева побывали «там» или продолжают «там» пребывать, и каждый рассказ по-своему разрешает эту ситуацию. Елеазар возвращается в жизнь из смерти, но остается вечным мертвецом: он не ест, не пьет, не нуждается в друзьях и теплом очаге, практически не разговаривает и убивает своим взглядом все живое. Чиновник из рассказа «Покой» мучительно выбирает между посмертной жизнью в аду и полным небытием и до последнего не может принять решение, предоставляя выбор случаю. Верочка из «Молчания» своим самоубийством разрушает всю свою семью, погружая некогда живой дом в тишину: замолкает после удара мать, улетает канарейка, отец скитается по опустевшему дому, тщетно пытаясь найти ответ на вопрос «Почему?». Герой рассказа «Ложь», убив свою возлюбленную, продолжает мучиться, поскольку так и не узнает, любила она его или нет. Общим знаменателем для этих ситуаций является «распадение коммуникации»: переход порога смерти уничтожает любую возможность вступать в диалог с человеком, на смену коммуникации приходит «минус-коммуникация». У Андреева совершенно отсутствует расхожий мотив понимания смерти как встречи со своими умершими родственниками: смерть мыслится как абсолютное прекращение коммуникации со всеми, живыми и мертвыми.
Список литературы Модели "посмертного существования" в новеллистике Леонида Андреева
- Андреев Л. Н. Повести и рассказы: В 2 т. //Леонид Андреев. URL: http://leonidandreev.ru/rasskazy/index.htm. (Дата обращения 22.12.2017.)
- Евангелие от Иоанна //Русская Православная Церковь. URL: http://www.patriarchia.ru/bible/jn/11. (Дата обращения: 13.07.2017.)
- Кихней Л. Г. «Пир со смертью» А. Пушкина, Вяч. Иванова и О. Мандельштама Семантические и ритмико-метричеческие переклички)//«Как в прошедшем грядущее зреет…»: Полувековая парадигма поэтики Серебряного века: сб. науч. работ. М.: Азбуковник, 2012. С. 173-195.
- Кихней Л. Г., Сафарова Т. В. Лирическая новелла Ивана Бунина в свете его феноменологических и экзистенциальных поисков//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 43-50.
- Леонид Андреев: Материалы и исследования/Ред. В. А. Келдыш, М. В. Козьменко. М.: Наследие, 2000. 415 с.