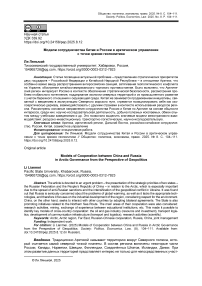Модели сотрудничества Китая и России в арктическом управлении с точки зрения геополитики
Автор: Ли Ляньмэй
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной проблеме – представлению стратегических приоритетов двух государств – Российской Федерации и Китайской Народной Республики – в отношении Арктики, что особенно важно ввиду распространения антироссийских санкций, затягивания геополитического конфликта на Украине, обострения китайскоамериканского торгового противостояния. Было выяснено, что Арктический регион интересует Россию в контексте обеспечения стратегической безопасности, рассмотрения проблем глобального потепления, поддержания экологии северных территорий и их промышленного развития с учетом бережного отношения к окружающей среде. Китай же занимается продвижением инициативы, связанной с введением в эксплуатацию Северного морского пути, стремится позиционировать себя как околоарктическую державу, взаимодействовать с другими странами в контексте использования ресурсов региона. Рассмотрены основные направления сотрудничества России и Китая по Арктике на основе общности интересов, среди них: научноисследовательская деятельность, добыча полезных ископаемых, обмен опытом между учебными заведениями и др. Это позволило выделить ключевые модели межстранового взаимодействия: ресурсноинвестиционную, транспортнологистическую, научноисследовательскую.
Арктика, арктический регион, Дальний Восток, российско-китайское сотрудничество, Россия, Китай, совместное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/149148907
IDR: 149148907 | УДК: 339.92 | DOI: 10.24158/pep.2025.8.12
Текст научной статьи Модели сотрудничества Китая и России в арктическом управлении с точки зрения геополитики
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия, ,
,
Введение . Традиционно Арктикой называют территорию вокруг Северного полюса, который считается самой северной точкой планеты. В состав региона включены некоторые части России, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Соединённых Штатов, Исландии, Дании. При этом развитие данных территорий представляет интерес не только для непосредственных участ-
ников, но и для остальных мировых государств, поскольку Арктика является не до конца освоенной человечеством ввиду суровых климатических условий и после таяния ледников может стать источником стратегических преимуществ для стран, участвовавших в ее разработке. Так, Цао Тяньсин отмечает заинтересованность в освоении арктических территорий и наблюдении за развитием региона со стороны азиатских стран, таких как Китай и Япония (Цао Тяньсин, 2024).
Таяние арктических льдов открывает перспективы освоения колоссальных ресурсов (нефть, газ, редкоземельные металлы) региона и эксплуатации проходящих через него транспортных маршрутов, в частности, Северного морского пути (СМП), способного радикально сократить путь между Азией и Европой. В этом контексте взаимодействие Китая и России в Арктике приобретает особую геополитическую значимость.
Целью данной статьи является комплексный анализ ключевых направлений российско-китайского сотрудничества в области арктического управления.
Поставленная цель обусловила необходимость решения исследовательских задач:
– рассмотреть ключевые нормативно-правовые документы, определяющие стратегические приоритеты РФ и КНР в Арктике;
-
– проанализировать конкретные шаги, предпринятые как Россией, так и Китаем для продвижения своей позиции в рассматриваемом регионе;
-
– охарактеризовать основные сферы совместной деятельности: нефтегазовая отрасль, развитие коммуникационной инфраструктуры, транспортная логистика, научно-исследовательская деятельность.
В рамках исследования применялись как общие, так и специальные методы научного познания: синтез и анализ литературных источников, описание, сравнение.
Результаты и обсуждение . Россия уже давно проявляет неподдельный интерес к Арктическому региону. Так, в 1926 г. власти Советского Союза выпустили постановление, согласно которому все открытые и неоткрытые льды от побережья до Северного полюса входили в состав страны1. В Стратегии развития Арктической зоны от 2013 г.2 подчеркивалось, что государству следует решить проблему нехватки технологий, необходимых для разведки и освоения прибрежных месторождений сырья, а также отсутствия развитой транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, в документе, определяющем цели Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г.3, обнаруживается намерение ее властей расширить сырьевую базу в данной зоне. Речь также идет об участии России в охране окружающей среды Арктики. Там же расположены ядерные силы, наличие которых дает возможность России сохранять стратегическую стабильность государства в любых условиях, сдерживая потенциальные угрозы со стороны внешних сил (Ло Сюань, 2022: 40). Об этом свидетельствует тот факт, что в военной доктрине, принятой в 2014 г., прямо говорилось о защите собственного влияния в Арктике4, была обозначена необходимость строительства военных сооружений вдоль северо-восточного побережья, в том числе на островах Врангеля, Котельном, Земле Александрова, Новой Земле и мысе Шмидта. В 2017 г. введена в эксплуатацию военная база на острове Земля Александрова. На арктических островах русские инженеры ведут планомерную реконструкцию инфраструктуры противовоздушной обороны от Кольского полуострова до Чукотки. Они поступательно укрепляют свои возможности в этой области путем строительства взлетно-посадочных полос и аэропортов. Всего в регионе планируется построить 13 аэропортов и 10 радиолокационных постов5.
Наряду с этими мероприятиями Россией систематически увеличивается численность военнослужащих, дислоцированных в созданных гарнизонах, в том числе и на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Продолжается расширение ледокольного флота и повышение его боевого потенциала. Так, в 2017 г. на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Сибирь»6. Россия также планирует построить атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» к концу
2025 г. Благодаря ему будет возможно круглогодичное судоходство по Северному морскому пути, что связано с тем, что «Лидер» сможет преодолевать лед толщиной более 4 м. А.Л. Лукин и Цинь Дун отмечают, что реализация проекта требует привлечения иностранных партнеров. Китайские инвестиции рассматриваются при этом как наиболее перспективный вариант для финансирования программы по созданию современных ледоколов, учитывая технологические возможности Поднебесной в подобных инициативах (Цинь Дун, Лукин, 2019: 160).
Растущее присутствие России в Арктике связано с необходимостью укрепления ее позиций на мировых энергетических рынках с особым акцентом на значимость сжиженного природного газа (СПГ). Основные предположения в этой области были представлены компанией «Новатэк». Она планирует увеличить добычу газа до 109 млрд м3 – в 2025 г. и 126 млрд м3 – в 2030. Всего за ближайшие годы компания намерена добыть около 820 млрд м3, 107 млн тонн конденсата и 75 млн тонн нефти1.
В долгосрочной стратегии развития арктических территорий до 2030 г. Россией основное внимание уделяется расширению сырьевой базы, технологическому развитию и увеличению добычи газа. Приоритет был отдан сектору СПГ. Также планируется строительство перевалочного терминала на территории Камчатки. Ожидается, что к 2030 г. Россия станет одним из крупнейших в мире производителей СПГ, увеличив производство с 16,3 млн т в 2017 г. до примерно 80 млн т в год2. Развитию отрасли, по мнению А.М. Балабаевой, способствует тот факт, что на территории Арктики находится около 41 % мировых неисследованных нефтяных месторождений и до 70 % газовых залежей (Балабаева, 2023: 132).
Китай также значительно активизировал свою дипломатическую активность в Арктическом регионе. Этому, в первую очередь, способствовало сотрудничество с исследовательскими центрами, следящими за изменением глобального климата. По мнению В.Ф. Печерицы, судостроительные мощности Южной Кореи и России привлекают повышенное внимание китайских специалистов, ибо они стремятся сформировать успешный флот (Печерица, 2020). Северный морской путь воспринимается обеими странами как экономически выгодный маршрут, позволяющий объединить усилия западных и восточных партнеров, став реальной альтернативой основным трансконтинентальным маршрутам через Индийский океан и Суэцкий канал, которые создают ряд вызовов безопасности.
По мнению Д.Н. Веселовой, для обеих стран – России и Китая – «Арктика имеет важное геополитическое значение, ибо они являются развитыми странами» (Веселова, 2022: 56). Уровень политической безопасности создает хорошую основу для сотрудничества (Ло Сюань, 2022: 80).
Прорыв произошел в начале 2018 г., когда Китай представил комплексную арктическую стратегию, в которой изложил свое видение строительства Полярного шелкового пути3. Китайские власти выразили желание в реализации сотрудничества с заинтересованными странами, а также подчеркнули необходимость привлечения отечественных предприятий к развитию инфраструктуры, позволяющей осуществлять коммерческую реализацию морских проектов. Кроме того, они уделили внимание сырьевому аспекту, заявив о своем участии в разведке и разработке месторождений сырой нефти, природного газа и других источников энергии. Д.Н. Веселова считает, что такие меры способствуют развитию объектов инфраструктуры Северо-Восточного Китая (Веселова, 2022).
Помимо вышесказанного, КНР уделяет большое внимание созданию экономических партнерств. Особая роль в этом отношении отводится Исландии, Норвегии и Гренландии. В таком контексте Исландия стала первой европейской страной, с которой КНР подписала соглашение о свободной торговле4, в декабре 2016 г. были возобновлены переговоры по экономическим вопросам с Норвегией, а Гренландия стремится сотрудничать с КНР в горнодобывающей промышленности. Китайская сторона особенно заинтересована в месторождениях урана, расположенных возле Кванефьельда. Подтверждением ее устремлений стало включение в группу постоянных наблюдателей Арктического совета в мае 2013 г. Такой статус также получили Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур и Италия5. Рассматриваемые государства планомерно наращивают свое присутствие в Арктическом регионе. Такое поведение во многом обусловлено возможностями, которые появляются в связи с таянием ледников в этой части мира и связаны с развитием морских путей и доступом к еще не открытым природным ресурсам (Юй Ю, 2024: 60). Указанные страны стремятся участвовать в арктическом управлении, уважая права других государств в контексте суверенитета над морями и исключительными экономическими зонами в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву1. Ссылаясь на нее, они подчеркивают важность теории открытого моря, которая распространяется на водные ресурсы, не составляющие исключительную экономическую зону, а также внутренние воды какого-либо государства. Согласно данному суждению, все страны могут получить выгоду от них. 17 октября 2015 г. министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай является важным игроком в Арктике, поскольку участвует в развитии региона, руководствуясь принципами уважения, сотрудничества и взаимной выгоды2. Заместитель министра Чжан Мин поддержал его и определил Китай географически как «страну, близкую к Арктике»3.
В.Е. Петровский отмечает, что ключевые направления арктической стратегии КНР предполагают необходимость системного изучения арктического пространства, обеспечение экологически ответственного освоения ресурсов, гарантии соблюдения прав коренных народов, проживающих на этих территориях (Петровский, 2020).
Китай при подтверждении своей позиции ссылается на Договор о Шпицбергене (Свальбарде), подписанный им 1 июля 1925 г., в котором Шпицберген определялся как собственность Норвегии, но при этом признавались равные права подписавших документ государств на использование природных ресурсов архипелага и проведение научных исследований. Договор был заключен 9 февраля 1920 года в Париже США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией. Позже, в течение почти ста лет, к нему присоединились 42 страны4.
Арктика открывает широкие перспективы для сотрудничества между Китаем и Россией. В первую очередь, сюда относится нефтегазовая отрасль. В прошлом акцент был сделан на добыче природных ископаемых, преимущественно на территориях Восточной Сибири. Российская компания «Роснефть» начала переговоры с китайским нефтегазовым гигантом «China National Petroleum Corporation» (CNPC) о реализации совместных проектов на арктическом шельфе Баренцева и Печорского морей5. Было создано предприятие «Ямал СПГ», которое специализируется на производстве альтернативных источников энергии. Проект предполагает запуск трех технологических линий мощностью по 5,5 млн т. Его важность была подчеркнута В.А. Александровой (Александрова, 2019).
5 сентября 2020 г. «Новатэк» подписал соглашение с CNPC, по которому последняя приобрела 20 % акций предприятия. Соглашение предусматривало начало поставок сжиженного газа в Китай в объеме не менее 3 млн т в год в течение пятнадцати лет. У подобной инициативы существовали конкретные предпосылки. В феврале 2015 г. вице-премьер России Аркадий Дворкович предложил китайцам войти в новые и существующие проекты, связанные с разведкой месторождений. Стоит отметить, что еще в ноябре 2014 г. «Роснефть» и CNPC договорились об условиях беспрецедентной продажи китайской компании 10 % активов в одном из крупнейших в России нефтяных месторождений – Ванкорском в Восточной Сибири. В сентябре следующего года к проекту «Ямал СПГ» присоединился Фонд Шелкового пути китайского правительства, получивший долю в размере 9,9 %. Вскоре после этого, в конце апреля 2016 г., акционеры «Ямал СПГ» объявили о подписании соглашения с двумя китайскими банками – China Exim Bank и China Development Bank – о предоставлении кредита в размере 12 млрд долл. США, номинированных в евро и юанях, сроком на пятнадцать лет для финансирования проекта. В декабре 2017 г. открылся первый терминал по экспорту сжиженного природного газа компании «Ямал СПГ».
В фокусе переговоров с Китаем также находится проект по освоению Таймырского полуострова с выходом на трассу СМП («Восток Ойл»). Пекин видится Москве основным рынком сбыта для добываемой нефти. Тем не менее сложность достижения договоренностей обусловлена несколькими барьерами: санкциями против российской нефтяной компании-оператора («Роснефть») и логистическими трудностями эксплуатации Арктического региона. Соответственно, именно так реализуется ресурсно-инвестиционная модель российско-китайского сотрудничества.
Определенные возможности в этом отношении представляет сфера инвестиций в коммуникационную инфраструктуру. За последние несколько лет Китай провел ряд экспериментальных круизов по северному маршруту. Тема коммерческого использования его уже поднималась им в переговорах с Россией. Например, в сентябре 2015 г. китайская компания «Poly Technologies» подписала соглашение о строительстве железнодорожной линии Белкомур – от Белого моря через Коми до Урала. В качестве основного подрядчика компания должна была участвовать в финансировании, проектировании и строительстве участка железнодорожной линии протяженностью 712 км и модернизации существующих 449 км. Трасса протяженностью 1 161 км должна была соединить горнодобывающие и промышленные районы Южного Урала с Сыктывкаром в Коми и далее протянуться до порта Архангельск. Однако ничего не произошло. Стоит добавить, что ранее китайская компания выразила заинтересованность в участии в строительстве нового глубоководного порта в Архангельске. А.Л. Лукин, Ли Юнхуэй и И.Б. Кейдун связывают осторожность азиатских партнеров с их стремлением получать контроль над реализуемыми проектами – многие китайские корпорации настаивают на мажоритарной доле в управлении объектами (Лукин и др., 2022). В России же исторически сохраняется подход, согласно которому стратегически важные активы должны оставаться под национальным контролем. То есть можно сделать вывод о том, что Москва декларативно положительно относится к привлечению китайских хозяйствующих субъектов к реализации инвестиционных проектов.
Транспортная логистика является еще одной важнейшей сферой российско-китайского взаимодействия в освоении Арктического региона, как считает К.М. Михайличенко (Михайличенко, 2019: 340). Повышение температуры на Земле приводит к тому, что ледники тают все быстрее, что, в свою очередь, открывает возможность создания новых судоходных маршрутов между Европой и Азией. Китай уже опробовал такие решения, примером чего является рейс контейнеровоза, принадлежащего китайской судоходной компании «COSCO», осуществленный между Далянем и Роттердамом во второй половине 2013 г. Движение через Берингов пролив сэкономило 15 дней по сравнению с преодолением маршрутов через Суэцкий канал и Средиземное море. Экипажу удалось безопасно пройти узкие места, например, Малаккский пролив, где часто происходят крушения.
В июне 2017 г. КНР представила план создания трех «голубых экономических коридоров», соединяющих Азию с Африкой, Океанией и южной частью Тихого океана, а также с Европой через Северный Ледовитый океан и поддерживающих морское сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь»1.
Исходя из вышесказанного, транспортно-логистическая модель взаимодействия России и Китая базируется на совместной работе по развитию Северного морского пути как ключевой трансконтинентальной трассы. Российская функция – предоставление критической инфраструктуры (флот ледоколов, портовые сооружения, навигационное сопровождение, охрана маршрута). Китайская роль кроется в инвестировании в строительство наиболее важных объектов портовой и логистической инфраструктуры.
Значимым направлением двусторонних взаимоотношений в области арктического управления является научно-исследовательская деятельность. В 2016 г. был создан Полярный инжиниринговый центр, который призван заниматься проблемами промышленного освоения Арктики. Е.В. Киенко иллюстрирует тезис на практике: «В октябре 2018 года была опубликована статья о второй завершившейся китайско-российской экспедиции в Арктике… Экспедиция была организована при сотрудничестве ФГБУН Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева РАН и Пилотной национальной лаборатории морских наук и технологий КНР» (Киенко, 2019: 67). Целью данного мероприятия являлся сбор информации, необходимой для обеспечения развития «Полярного шелкового пути».
Нань Ян и Пэйцзин Гао говорят о том, что в апреле 2019 г. был создан специальный арктический научно-исследовательский центр, российским головным учреждением которого является Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, а китайским – Национальная лаборатория морских наук и технологий (Циндао). Стороны запланировали провести не менее пяти совместных экспедиций в течение следующих нескольких лет. Например, они совершили первую совместную экспедицию на арктический континентальный шельф, расположенный в Восточно-Сибирском море (Нань Ян, Пэйцзин Гао, 2022: 262).
Люй Хайян также отмечает эффективность совместных исследований на дрейфующих станциях (Люй Хайян, 2023: 56). Основное внимание российских специалистов сосредоточено на изучении динамики ледового покрова, тогда как китайские ученые анализируют глобальные климатические взаимосвязи.
Пэй Юнин отмечает, что, несмотря на очевидную взаимодополняемость интересов КНР и РФ, перспективы их двустороннего сотрудничества в Арктике напрямую зависят от способности государств преодолеть геополитические риски и выработать устойчивые правовые механизмы взаимодействия в условиях санкционного давления со стороны Запада (Пэй Юнин, 2024).
Заключение . Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что в целом в последние годы наблюдается растущий интерес к коммерческому использованию Северного морского пути со стороны как России, так и Китая.
С точки зрения Китайской Народной Республики, судоходство в этой части света приносит ощутимые выгоды, учитывая значительное сокращение времени транспортировки товаров по сравнению с традиционными морскими маршрутами, пролегающими через Панамский и Суэцкий каналы. Кроме того, в настоящее время не существует серьезных угроз, связанных с морским пиратством.
Что касается России, то Северный морской путь имеет для нее стратегическое значение, учитывая важность строительства новой транспортной артерии, позволяющей осуществлять грузовые перевозки между отдаленными уголками страны, а также упростить экспорт сырья на зарубежные рынки. Изменение климата и сопутствующий процесс таяния ледников позволяют использовать межконтинентальное судоходное сообщение в течение всего года. Северный морской путь учитывает протяженность ряда морей: Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. За последние несколько десятков лет площадь льда (акватории, покрытой льдом) в указанных морях существенно сократилась, что создало благоприятные условия для судоходства. Однако необходимо учитывать сезонный характер навигации в этом районе, что ограничивает возможности маневра для торговых судов, не приспособленных к плаванию в сложных ледовых условиях. Поэтому первостепенные задачи связаны с созданием соответствующей транспортной инфраструктуры в крайне неблагоприятных климатических условиях, позволяющей транспортировать сырье на большие расстояния на рынки Азии и Европы.
Россия также возвращается к политике, проводившейся в советские времена, укрепляя свое экономическое присутствие в Арктике, – участвует в проектах по добыче природного сырья на континентальном шельфе. Особого внимания заслуживает проект «Ямал СПГ», сжиженный газ которого поступает на рынки Европы и Азии. Эти и другие национальные интересы России в Арктике противопоставлены гегемонистским амбициям Соединенных Штатов, как отмечают С.А. Сидоров, Н.В. Фомина и В.П. Сахно (Сидоров и др., 2019). Однако подобные мероприятия требуют значительных инвестиционных затрат. Низкие цены на нефть на мировых рынках и разразившийся экономический кризис замедлили темпы реализации заявленных проектов. Этому также способствуют западные санкции, введенные против России в связи с геополитическим конфликтом на Украине.
Перед обеими странами возникают трудности, продиктованные нестабильностью международной обстановки. Ли Чжэньфу, Ван Цюнь, Ци Синьли считают, что разное видение роли Арктики у России и Китая «вносит коррективы в их позиционирование в регионе» (Ли Чжэньфу и др., 2025: 10). Москва рассматривает Китай как партнера для освоения Арктики и развития Северного морского пути (СМП). Однако Китай не ограничивается сотрудничеством только с Россией. Пекин заинтересован в расширении взаимодействия со всеми арктическими странами, чтобы укрепить свои позиции в регионе, усилить влияние на арктические дела и сформировать многосторонний формат сотрудничества. Это вызывает опасения у России, особенно на фоне напряженных отношений Москвы с остальными семью арктическими государствами (Ли Чжэньфу и др., 2025: 10).
Таким образом, можно заключить, что с точки зрения геополитики, взаимодействие России и Китая в Арктике консолидируется вокруг трех основных моделей: инвестиционно-ресурсной (фокус на освоение углеводородов), транспортно-логистической (альянс по превращению Северного морского пути в конкурентоспособную артерию «Полярного шелкового пути») и научно-исследовательской (экологический мониторинг как инструмент укрепления позиций в регионе).