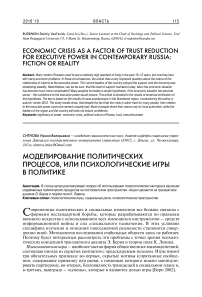Моделирование политических процессов, или психологические игры в политике
Автор: Ситнова Ирина Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает вопрос об использовании психологических методов в изучении современных политических процессов на постсоветском пространстве. Акцент делается на транзактном анализе Э. Берна и теории поля К. Левина.
Психологические игры, социальные роли, психологическое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/170168157
IDR: 170168157
Текст научной статьи Моделирование политических процессов, или психологические игры в политике
С овременные политические и социальные изменения все больше связаны с формами нестандартной борьбы, которые разрабатываются по правилам военного искусства с использованием всех имеющихся инструментов – средств информационной войны и сил специального назначения. В этих условиях специфика изучения и описания повседневной реальности становится совершенно иной. Методология исследования стабильных обществ здесь не работает. Поэтому будет интересным рассмотреть эти проблемы с точки зрения психологических концепций транзактного анализа Э. Берна и теории поля К. Левина.
Психологические игры – наиболее частая форма общественных взаимодействий, состоящая иногда из скрытых контактов с предсказуемым исходом. Игры имеют три обязательных признака: во-первых, скрытые мотивы (спрятанные сообщения, содержащие приманку или рычаг, с помощью которого можно манипулировать партнером), во-вторых, благовидность трансакций в социальном плане и, в-третьих, выигрыш – «купоны», которые и являются целью игры [Берн 2002].
Все важные социальные контакты протекают именно как игры. Игры, в которые играют люди, имеют широчайший диапазон – от невинных ежечасных игр по мелочам до зловещих и трагических, какими являются войны. Есть множество деструктивных игр, несущих в себе распад и уничтожение, например игры политиков, когда за социально благовидными целями всенародного блага скрывается стремление к собственному выигрышу в виде власти и сопутствующего благосостояния. Иллюстрацией такого моделирования может служить концепция Дж. Шарпа, который утверждает, что любой политический процесс всегда объединяет в себе несколько проектов: во-первых, эмоциональную силу населения; во-вторых, рациональную силу оппозиции, выдвигающей собственный проект, внешний тренд изменений; в-третьих, реагирующую на это власть, поскольку именно ей приходится защищать свой проект от разрушительных действий других игроков [Шарп 1993]. Политический процесс рассматривается как треугольник, который состоит из власти, народа и оппозиции [Почепцов 2005: 18]. В случае «цветных революций», по мнению Г.Г. Почепцова и Дж. Шарпа, треугольник должен быть преобразован в квадрат, поскольку активную роль начинает играть внешний игрок, который даже в роли наблюдателя уже оказывает существенное воздействие на происходящие события. Внешний игрок участвует как в нейтрализации действий власти, так и в стимуляции действий оппозиции. Уровень вероятности победы в этих случаях повышается [Почепцов 2005; Шарп 1993].
Таким образом, можно утверждать, что социальная теория ролей в политике может быть весьма полезной. Рассмотрим в связи с этим концепцию транзакт-ного анализа Э. Берна. Рассуждая об играх, в которые играют люди, Э. Берн пишет, что в соответствии с представлениями о себе, о жизни, со способами реализации собственной жизни людей можно разделить на выигрывающих и проигрывающих.
Выигрывающие адекватно реагируют на события, правильно используют свои способности и время, не позволяя себе жить ни розовым будущим, ни безмятежным прошлым. При этом они не сбрасывают со счетов свое прошлое и не пренебрегают планами на будущее. Выигрывающие живут по принципу «здесь и сейчас», делают своевременные выводы после неизбежных для каждого промахов и падений. Они свободны от власти догм и ложных авторитетов, поскольку являются авторитетами сами для себя. Это жизнеспособные люди, которые не ограничиваются только собственными интересами. Состояние общества, положение страдающих и слабых для выигрывающих часто более важны, чем собственная жизнь.
Проигрывающие люди – это безвольные, вечно страдающие, измученные и мучающие других, не способные к какой-либо страсти и поэтому нестерпимо скучные люди. Даже преуспевая в жизненных обстоятельствах, говорят о себе как о тревожных, несчастных. Проигрывающие не умеют жить настоящим. Нескончаемая ностальгия по прошлому, мечты о будущем чуде или волшебном спасении лишают их возможности воспользоваться шансами сегодняшнего дня. Их представления о мире искажены, наполнены непрерывной тревогой и плохими предчувствиями, претензиями к людям, окружающим их сегодня и к давно умершим. Почти вся энергия их уходит на сохранение ролей и масок, на сохранение status quo , поскольку продуктивная реализация собственного жизненного пути для них невозможна.
Э. Берн считает, что каким именно вырастает человек – выигрывающим или проигрывающим – во многом определяют условия его детства. Сенсорный голод грудного младенца, которого целыми днями не берут на руки, недостаток общения, жесткое или пренебрежительное обращение, болезнь, чрезмерная опека – словом, все, что формирует у ребенка необходимость манипулировать людьми, чтобы выжить, превращает технику манипулирования в тип поведения и в дальнейшем – в образ жизни.
Для того чтобы сохранить свои представления о мире, свой status quo , личность закрепляет принятую позицию, играет в соответствующие данной позиции игры и проживает соответствующий ей жизненный сценарий.
Так Курт Левин описал связь среды и поведения человека, отразив ее в формуле: В = ( Р, Е ), где В – поведение человека, Р – личность, Е – среда. По его мнению, человеческое поведение определяется как контактирующими личностями, так и средой, в которой происходит взаимодействие [Левин 2000].
Категория жизненного пространства К. Левина рассматривается как поле психологического пространства со своими секторами, сегментами и регионами, соединенными локомоциями, т.е. действиями, совершаемых человеком в реальном и воображаемом пространстве. Именно локомоции (практики взаимодействия) обеспечивают регулирование и стабилизацию [Левин 2000].
Если рассматривать социальное пространство в двух координатах –справедли-вости и законности, то можно выделить 4 зоны: зону законности; зону обычного права; зону беспорядков и зону абсурда (зона военных действий). Стабильной социальной зоной является только зона законности, остальные 3 можно назвать зонами нестабильного пояса с изменением градуса терпимости.
В каждой зоне рождаются, по крайней мере, 4 специфические ситуативные роли, формирующие сценарий игры, соответствующий отношениям законности и справедливости.
«Стратеги» формируют цели управления, «тактики» осуществляют функцию обеспечения средствами, «операционисты» заняты исполнением и формированием результата. Это нормальное состояние политической системы, характеризующейся прямыми (неконфликтными) трансакциями. Это период повышения экономических и социальных показателей. Пока люди живут стабильно, они не испытывают неудовлетворенности по отношению ни к плохому, ни к хорошему. Таким образом, вероятность внутреннего взрыва минимальна. Опасность появляется тогда, когда возникают растущие ожидания. Именно так произошло на Украине 2014 г., когда население экономически было сориентировано на Европу с ее высокими доходами, а затем последовал решительный откат от этого вектора развития. В результате народный гнев превзошел все мыслимые ожидания.
Результатом игры под названием «стабильность» становится экономическая напряженность, которая отражает меру поведенческой активности населения в ситуации нарушения их экономических прав.
Лидеры определяют цели, но отсутствуют желающие эти цели выполнять. Подобная ситуация приводит к конфликту, который запускает взаимодействие ролей «агрессора» и «жертвы». Государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри: для этого всячески разжигаются имеющиеся внутренние противоречия (национальные, религиозные, социальные или территориальные). Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Так было в Киргизии в 2005 г., так произошло и на Украине в 2014.
Результатом игры «кризис» становится информационная напряженность, которая отражает меру поведенческой активности населения в ситуации нарушения их политических прав.
Игра «революция» или «беспорядки в городе» формируется в зоне незаконности и утраченной справедливости.
При популяризации прошлых «массовых терроров» и «голодоморов» происходит возрастающее народное возмущение «несправедливостью» перераспределения ресурсов страны, которое перерастает в массовые уличные беспорядки. Герои-революционеры (лидеры студенческих движений «Отпор» в Югославии, «Кмара» в Грузии, «Пора» на Украине) на самом деле являются слепым орудием в руках «финансового интернационала», обученного организации беспорядков. Именно они формируют цели управления. «Лидеры» других стран обеспечивают поступление средств; народ, выступающий в роли «потерпевших», исполняет намеченные цели и доводит результат до логического конца. Протесты населения могут закончиться сменой политического режима при непрекращающейся иностранной помощи, которую получают «потерпевшие».
Результатом игры «беспорядки» становится акционистская напряженность, которая отражает меру поведенческой активности населения в ситуации нарушения их политических прав.
Игра «война за ресурсы» – «абсурд», или «управляемый хаос» осуществляется в зоне формирующейся законности, но в ситуации попрания всех норм справедливости. Игра идет на двух уровнях – на уровне дипломатии и на уровне боевых действий.
По сценарию «абсурд» – это война за ресурсы жизненного обеспечения, которые начинают постепенно исчезать. Острый недостаток жизненных ресурсов провоцирует глобальные конфликты между государствами, военными корпорациями, частями отдельной страны. Военные действия приобретают характер войны без правил, теряется смысл победы, работает хаос, абсурд. Тратятся огромные человеческие ресурсы, при этом цели и смыслы потерь отсутствуют, но пояс неблагоприятных событий для страны-жертвы неизбежно сжимается. Это обусловлено еще и тем, что включенные в игру вооруженные формирования имеют специфику, поскольку это, во-первых, частные армии, сформированные олигархическим капиталом, такие, например, как «Днепр», «Донбасс»; во-вторых, это частные зарубежные военные формирования для проведения специальных операций, например, Academi , ex-Black Water , Executive Outcome ; в-третьих, это криминальные структуры. Все эти военные организации являются негосударственными образованиями, находятся вне рамок правового поля и не несут никакой ответственности за нарушение международного законодательства, что делает войну крайне беспощадной и жестокой. Безнаказанность и вседозволенность обусловливают ведение боевых действий бандитскими и террористическими методами, причем террор принимает массовый характер. Идет планомерное и целенаправленное разграбление религиозных ценностей и уничтожение памятников культуры и истории. У населения страны – жертвы агрессии происходит полная дезориентация в системе координат «свой – чужой». Часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта.
Результатом игры «абсурд» становится депривационная напряженность, которая является социально-психологической характеристикой состояния тревожности населения по поводу нарушения его права на жизнь.
Из всего сказанного выше можно сделать следующий вывод: модель всегда проще тех явлений, которые она по замыслу отображает или объясняет. Но представление объектов в простом, схематичном виде всегда облегчает задачу понимания особенностей функционирования этих объектов. Более того, данный подход формирует для играющих возможность стать победителем в ситуации психологической неопределенности.
Список литературы Моделирование политических процессов, или психологические игры в политике
- Берн Э. 2002. Игры, в которые играют люди. СПб: Изд-во СПбГУ. 480 с
- Левин К. 2000. Теория поля в социальных науках. СПб: Речь. 344 с
- Почепцов Г.Г. 2005. Революция.com. Основы протестной инженерии М.: Европа. 513 с
- Шарп Дж. 1993. От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения. Доступ: http://psyfactor.org/lib/sharp.htm (проверено 15.09.2016)